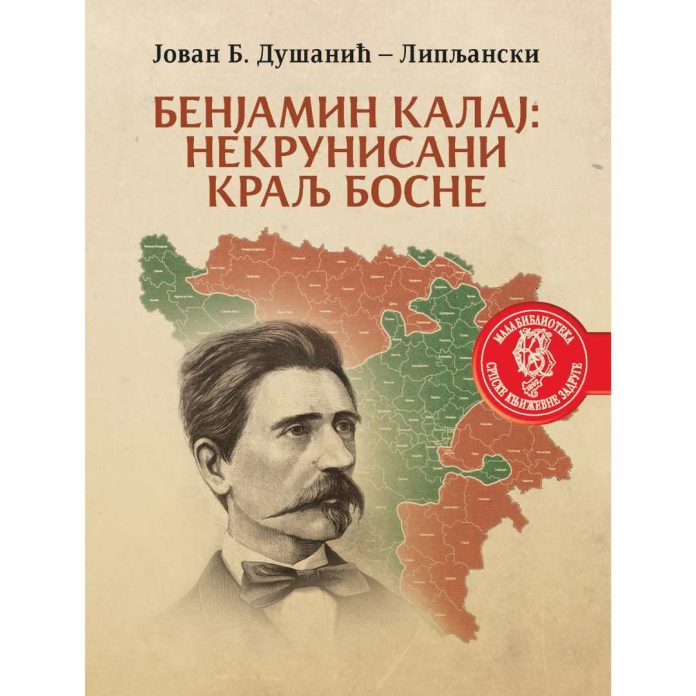Общественно-политическая ситуация в Сербии эпохи Обреновичей. Причины, побудившие князя Милана повернуться к Австрии
В первой и второй частях очерка, посвящённого рукописи проф. Йована Душанича мы обратили внимание на то, что в книге – помимо фактов, известных отечественным любителям истории Балкан – содержатся некоторые любопытные детали. Габсбурги, желая встроить Боснию и Герцеговину в пространство своей монархии, далеко не сразу сделали ставку на хорватизацию славян-католиков, но надеялись на то, что Сербию удастся «приручить», и тогда не нужно будет надрываться, утихомиривая бунташный народ, но всегда под рукой будут управляемые вассалы.
Однако, этот план не мог быть реализован на практике, поскольку сербский народ обладал высоким уровнем культурно-политического сознания. Какими бы деспотами ни были князья, пытавшиеся утвердить абсолютистские режимы правления, народ не был стадом холопов. С этим приходилось считаться. Подробный рассказ о развитии общественно-политических идей в княжестве Сербии выходит за рамки монографии Душанича, но мы полагаем, что это примечание весьма важно, дабы сформировать возможно более полную картину происходящего.
Невольно вспоминаются события относительно недавнего прошлого. 1990-е годы. От некоторых сербских национальных деятелей приходилось слышать горькие сетования на то, что для власти г-на Слободана Милошевича свои же соплеменники в Боснии были гораздо большей проблемой, нежели неонацисты Хорватии, исламисты Изетбеговича и наркомафия Косова. Потому что усташи, исламисты, албанцы Косова – все они были врагами сербов, а сербские четники Караджича были соперниками югославских посткоммунистов, сербские национальные лидеры вполне могли быть теми, кто подвинул бы тогдашнюю власть «третьей» Югославии с Белградского престола…
Проводить параллель с событиями эпохи Обреновичей и оккупации Боснии и Герцеговины с трагическими событиями в Югославии не столь минувшего времени не вполне корректно, но некоторые параллели, полагаем, существуют.
И для того, чтобы показать это, давайте в общих чертах рассмотрим: что же представляла собою общественно-политическая жизнь Княжества (позже – Королевства) Сербии.
Радикализация сербского общественно-политического сознания
За прошедшие от Берлинского конгресса до начала Первой мировой войны время сменилось несколько поколений политиков, что привело в конечном итоге к радикализации сербского общественно-политического сознания.
Говоря об ухудшении отношений между Сербией и Австро-Венгрией, автор указывает на то, что приход к власти в Белграде Сербской Радикальной партии знаменовал собою смену поколений политиков.
«Старое повстанческое поколение было деморализовано решением Берлинского конгресса, сделавшим бессмысленной их многолетнюю борьбу за свободу и объединение. Параллельно с этим, благодаря росту экономической мощи сербского мещанства (основанной прежде всего на торговле), на сцену выходит новое политическое (мещанское) руководство сербского народа», пишет Душанич.
Под мещанством в данном случае подразумевается то, что у нас принято называть – вслед за марксистами-ленинцами – «мелкой буржуазией». На самом-то деле речь идёт о более-менее состоятельных ремесленниках и торговцах разного уровня оборотистости. Сербские города XIX века – это не промышленные гиганты, окружённые трущобами, населёнными пролетариями в первом-втором поколении, но именно локальные центры ремесла и торговли с целыми кварталами лавок, совмещённых с мастерскими. (Наглядную картину сербского города соответствующей эпохи рисует Стеван Сремац в комедии «Ивкова Слава»).
Естественно, что экономически окрепшее сербское мещанство желало утвердиться и в политической жизни. Будучи не в состоянии сделать свои взгляды доступными широкой местной общественности, они излагали их в прессе, публиковавшейся за пределами Боснии и Герцеговины.
И если в самой Сербии это желание воплотилось в победе партии Николы Пашича, то в южнославянских краях Австро-Венгрии стремление к политической деятельности могло носить лишь оппозиционный характер. Причём из-за систематического подавления сербского национального самосознания, запрета политической организации и отсутствия свободы печати речь шла о внесистемной оппозиционности.
И хотя Франц-Иосиф подписал «Положение о церковно-просветительном управлении», распространение парамасонских идей, воплотившихся в конечном итоге в «Младобоснийцах», было теперь уже делом времени.
Причиной тому было то, что за несколько десятилетий сменилось три поколения сербских общественно-политических деятелей, произошла радикализация сербского сознания.
Душанич подчёркивает следующее:
«Повстанческое поколение сербских лидеров десятилетиями вело вооруженную борьбу против турецкой власти, от которой в конце освободилось, однако представители этого поколения в соответствии с решением Берлинского конгресса не стали в обществе тем, кем они могли бы стать, если бы Босния и Герцеговина стала частью соответственно Сербии и Черногории. С момента австрийской оккупации повстанческое поколение предводителей сербского народа сменилось на новое поколение сербских лидеров, умевших отстаивать права не с оружием в руках, но используя конституционные инструменты.
После достижения Положения, которое завоевало церковно-школьную автономию сербского народа, но не в той мере, за которую боролись, наступает новая смена, и во главе национальной борьбы за свободу и объединение встает первое поколение сербской интеллигенции, решительное и готовое расширить это узкое пространство на всю общественно-политическую и экономическую жизнь.
Каждое из этих трех поколений (повстанческое, гражданское и революционное) внесло неизмеримый вклад в то, что сербский народ в Боснии и Герцеговине наконец, в 1918 году, завоевал свою свободу (освободившись и от австро-венгерской власти) и пережил объединение сербского народа в одном государстве».
Ещё раз о специфических особенностях сербского племени. Свидетельства Герберта Вивиана и Йована Скерлича
В конце XIX века английский путешественник Герберт Вивиан (Herbert Vivian, 1865–1940) несколько раз бывал в Сербии и в 1897 году публикует книгу («Сербия: рай бедных») о своих путешествиях, в которой приводит множество фактов и своих интересных наблюдений. Он подчеркивает, что в Сербии (цитируем по тексту монографии Йована Душанича), «стране крестьян, нет ни одного миллионера – даже в динарах, но, с другой стороны, не видно признаков цивилизации вроде голода, нищеты и бездомных. В Сербии достигнут идеал наибольшего блага для наибольшего числа людей. То немногое, что он хочет, сербский крестьянин может себе позволить без всяких проблем». Он считает семейные задруги, как основную форму жизни в деревне, идеальными институциями, позволяющими крестьянину жить, правда, скромно, но довольным и счастливым.
Находясь в Ужице, одном «из беднейших городов Сербии» и его окрестностях, он записывает: «В несколько более бедном ужицком округе десятичленная семья на своем имении производит товар стоимостью 2400 динаров в год. Однако, поскольку для удовлетворения своих потребностей она ежегодно тратит 2000 динаров в товарах и деньгах… разницу в 400 динаров она использует для увеличения своего имения или введения на нем каких-то новшеств. Глава такой семьи обычно имеет запас в 200 или 300 динаров наличными, несомненно, больший, чем мог бы похвастаться средний сельскохозяйственный производитель из Англии. Как правило, эти деньги он держит дома или понемногу привыкает вкладывать их в сберегательный банк, где они приносят ему 5 процентов годовых. Все согласны с тем, что желания и потребности такого крестьянина немногочисленны и что он доволен своей жизнью. Его пища в основном состоит из кислой капусты, сала, копченой рыбы и копченого мяса. Свежее мясо для него – роскошь, которую он редко себе позволяет. Однако в равнине и речных долинах крестьяне значительно богаче. В тех частях Сербии трудолюбивый и бережливый крестьянин может жить на половину своего производства, а крестьяне, не едящие мяса каждый день, – настоящая редкость».
Интересны наблюдения Вивиана (окончившего Кембридж) об образовании. «Реальное училище в Ужице – также превосходно организованная институция, и ее величественное здание свидетельствует об ответственности и сознательности людей той части Сербии, которые его построили, несмотря на то, что их округ довольно беден. И действительно, большую часть расходов на строительство ужицкого реального училища несло местное население, которое за это было и до сих пор щедро вознаграждено прилежанием и успехами учеников этой школы. Ужицкое реальное училище основано в 1895 году, и в нем сегодня 294 ученика. Тридцать или сорок процентов из них работают – чтобы иметь возможность учиться – и эти дети в основном не из Ужице… Мне сказали, что средний бедный ученик ужицкого реального училища, который учится бесплатно, получает книги от общины и питается у своего работодателя, двенадцати динаров в месяц более чем достаточно, чтобы покрыть все его расходы… Более богатые ученики ужицкого реального училища не смотрят свысока на своих бедных товарищей или так, чтобы те чувствовали себя неловко. Совсем наоборот, часто помогают им, давая книги и деньги».
Йован Скерлич, один из величайших и самых влиятельных интеллектуалов Сербии начала XX («Сербия, её культура и литература», «Боснийская фея» №3-6/1910), подчёркивает, что «у крепкой сербской расы есть свои редкие черты», он указывает: «после исследования г-на доктора Йована Цвийича и его учеников о заселении сегодняшней Сербии становится ясно, как и через какие элементы она поселилась. Это были гайдуки и ускоки, несмирившиеся, смелые, мятежные элементы, которым приходилось бежать от турок в пустынные и дремучие леса Шумадии.
Это гайдуцкое и лихое население не могло долго терпеть турецкое религиозное, политическое и экономическое угнетение, и, начиная с конца XVIII века, Сербия стала бунтовать, а в первых десятилетиях XIX века ей удалось освободиться. Эта сильная и мятежная раса, созданная своего рода революционной селекцией, имеет свои очень хорошие черты. Живая, свободолюбивая, гордая, жаждущая независимости, способная на большой подъём в часы напряжения, привнесла в свою новую жизнь, как государственную, так и культурную, все свои добрые качества. Крестьянин сербский умён, почти одарён, и у него часто встречаются типы чудного интеллекта…
Эти природные черты расы культивируются интеллигенцией. Поскольку в стране нет сословий и не было классов, переход от народа к гражданской нации осуществлялся очень быстро, и сегодня и гражданство, и интеллигенция постоянно обновляются и укрепляются притоком этой здоровой народной крови. Этот разум, народный и народного происхождения, поддерживает постоянное и животворящее общение с народной массой и, следовательно, обладает значительной жизненной силой».
В то же время Йован Скерлич отмечает, что «у Сербии есть свои недостатки, присущие всей нашей юго-западной расе, недостатки, проистекающие из её добродетелей.
Следствием его революционного государственного создания является опредёленная политическая раздробленность, чрезмерный индивидуалистический дух, нехватка чувств общности всей страны и государства… Как и его предки, сегодняшний серб обладает множеством личных добродетелей и способностей к индивидуальной самообороне, но ему ещё не хватает этого высшего социального чувства, творческой силы, способности к систематической, упорной работе… он часто живёт злобой дня сего, любит политику здесь и сейчас, не в состоянии упорно выдерживать усилия; так же быстро остывает, как быстро воодушевляется, так же легко воспламеняются, так и быстро прогорают… Счастье только в том, что эти положительные качества составляют сущность народного характера и не меняются, в то время как негативные особенности, которые не соответствуют современной жизни, социальному духу времени и современным государством, заметно и неуклонно ослабевают и теряются…»
Йован Скерлич отмечает, что «сербский народ, воспитанный в духе свободы ради свободы, политически созрел и управляет собой без наставника, построив общество, которое основано ни на династиях, ни на сословиях, но исключительно на своём собственном, народном и национальном. Последние годы национальных невзгод во многом способствовали его жестокому воспитанию.
В жизни и испытаниях Сербия закалилась и приспособилась к условиям современной жизни, обрела, наконец, равновесие, и подлинная, культурная Сербия находится на верном пути зрелости… Подобно тому, как ребёнок учится ходить, спотыкаясь, так и современная Сербия за сто лет, спотыкаясь и падая, после целого ряда дорого приобретенного опыта и болезненных ран, научилась ходить прямо».
Интересно, что в Сербии – в отличие от Греции и Румынии, которые ввели у себя конституционное устройство (соответственно – в 1864 и 1866 гг.) – парламентская борьбы была действительно борьбой идей, а не столкновением честолюбий, узколичного и корыстолюбивого соперничества. Это, несомненно, тоже было, ибо, как говорится, «все мы – люди»… Но…
Но в Сербии всё было не так, как в соседних балканских мини-державах той поры.
В указанную эпоху «в Сербии образовались настоящие партии, где, после того, как выработанная в 1869 году конституция не удовлетворила большинство страны, оппозиция начала против государя борьбу, закончившуюся её победой в 1889 году. В 1804 году борьба возобновилась, и к концу XIX века успех склонился на сторону государя». [1] В 1903 г., как мы помним, король Сербии Александр Обренович, сын и преемник короля Милана, был убит в своём дворце офицерами-заговорщиками, которые вернули на престол династию Карагеоргиевичей.
От Карагеоргиевичей к Обреновичам – и обратно
Как видим, сербский народ в силу причин объективного характера выработал здоровые демократические устои, однако, проф. Йован Душанич в своём исследовании не обходит стороной и вопрос династический:
«За сто лет существования современного сербского государства происходили смены власти династий Карагеоргиевичей и Обреновичей.
Карагеоргиевичи были носителями идеалов освободительной борьбы, во внешней политике больше опирались на Россию, начиная со времён Карагеоргия, искавшего помощи в борьбе с турками в союзе с Россией и стремившегося освободить всех сербов, находившихся под турецким владычеством, и до Петра I Карагеоргиевича и его сына Александра, чей период был отмечен освободительными и объединительными войнами (Балканские войны, Первая мировая война). Одновременно с этим была проведена большая работа по внутренним реформам и приближению к европейским моделям современной государственности.
В отличие от Карагеоргиевичей Обреновичи, как правило, были авторитарными правителями, известными своей более прагматичной внешней политикой и постепенным поворотом в сторону Австро-Венгрии, особенно в период правления Милана Обреновича и его сына Александра. Такая ориентация отражает не только различия геополитических стратегий, но и более глубокий раскол внутри политической элиты сербского общества, при том, что подавляющее большинство населения в указанный период было настроено русофильски и враждебно по отношению к Австро-Венгрии, которая притесняла соотечественников, подданных Габсбургов».
Напряжённая политическая ситуация в Сербии 1880-х годов в конечном итоге привела к тому, что король Милан отрёкся от престола (1889) и передал власть своему малолетнему сыну Александру, что привело к назначению регентства, просуществовавшего до 1893 года, пока Александр Обренович не занял престол.
Под влиянием регентства и радикалов Сербия улучшила отношения с Россией, но с приходом к власти короля Александра отношения вновь ухудшились. Авторитарное правление короля Александра вызвало сильный отпор как среди народа, так и среди сербской интеллигенции, военной и политической элиты, что способствовало падению и насильственному свержению династии Обреновичей в 1903 году.
Период правления короля Петра с 1903 года до Первой мировой войны многие считают самым успешным периодом в новейшей истории Сербии, хотя в это время Сербия столкнулась с новыми, очень серьёзными вызовами: таможенной войной, навязанной Австро-Венгрией (1906-1911), а затем и настоящими Балканскими войнами (1912-1913).
Остановимся подробнее на личности князя (позже – короля) Милана Обреновича.
Милан Обренович и политическая ситуация в Сербии 1870-х
Милан Обренович был провозглашён князем на следующий день (10 июня 1868) после убийства князя Михаила, его двоюродного брата. Поскольку новому князю ещё не исполнилось четырнадцати лет, то Скупщина назначила трёх регентов: военного министра генерала Миливоя Блазноваца (возглавившего правительство), Йована Гавриловича и Йована Ристича, выдающегося сербского политика, своего рода «серого кардинала».
Именно усилиями регентского совета в Сербии в 1869 г. была принята новая Конституция («Наместнический устав»), первая, составленная без оглядки на Османскую империю.
Согласно этой Конституции, Князь является самодержавным монархом. Причём речь идёт непременно о правителе из династии Обреновичей. Самодержавное достоинство передается по наследству от отца старшему сыну из числа прямых законных потомков Милана Обреновича, при этом в Уставе прямо указано, что князем ни в коем случае не может быть избран никто из рода Карагеоргиевичей.
Самодержавный властелин Сербии осуществляет исполнительную власть, осуществляя её при содействии назначаемого им Совета министров, ответственных перед Скупщиной. Скупщина, избираемая самодержцем на три года, делила с князем законодательную власть и вотировала бюджет. Подготовку законов и контроль бюджета осуществлял назначаемый князем Государственный совет.
Устав устанавливал порядок выборов депутатов: всякий налогоплательщик, достигший тридцатилетнего возраста, получал активное и пассивное избирательное право, если он не был чиновником, адвокатом или учителем. Треть депутатов назначалась лично князем.
Французы сетовали, что, дескать «благодаря постановлению, обеспечившему князю назначение трети депутатов, а также благодаря исключению, согласно закону, людей образованных, регенты являлись господами собрания, сведённого к роли простой регистрационной комиссии, и функционирование парламентского режима не вызывало никаких затруднений». [2]
Во время регентства Сербская политическая жизнь дирижировалась Либеральной партией, единственной к тому времени организованной политической структурой. Однако со времени обнародования «Наместнического устава» из интеллигенции, отстранённой законом от политических дел, сформировалась оппозиционная партия.
Среди этих людей можно было выделить две основные категории политиков. «Одни, вышедшие по большей части из французских школ, опасались крестьянского партикуляризма. Они думали, что крестьянину чужда сама идея государства и что он почти не видит далее узких интересов своей деревни. Они считали совершенно невозможным какой бы то ни было прогресс, и самое существование нации казалось им в опасности, если разрозненные элементы не будут объединены в рамках вполне законченной администрации, руководимой сильной центральной властью. Они были поборниками власти и централизации на французский лад.
Другие, вышедшие преимущественно из швейцарских университетов, стремились, напротив, ограничить влияние центральной власти и подчинить её самому бдительному контролю. Как истые консерваторы, они требовали возможно полного сохранения сербских традиций и, следовательно, оставления за общинами широкой автономии: впоследствии их стали называть Радикалами.
Первые готовы были на значительные затраты для того, чтобы поднять Сербию до уровня культуры старых европейских государств, двинуть её вперёд, «напред». Отсюда – последующее их название Напредняки, обычно переводимое словом «прогрессисты».
И те, и другие были недовольны существующим конституционным режимом и, сплотившись в единую партию, дружно выступали против правительства с программой, выражавшейся в одном требовании: пересмотр конституции». [3]
Беглый взгляд на политическую ситуацию, сложившуюся в Княжестве Сербия к моменту оккупации Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией, говорит о том, что в случае политического объединения с сербскими краями за Дриной несказанно усилился бы политический вес оппозиции, особенно радикального крыла. Несложно понять мотивы самодержца, для устойчивости власти которого оппозиция (в широком смысле слова) представляла собою куда большую опасность, нежели внешние противники.

И поэтому совершенно логичным нам видится шаг короля Милана, сделавшего ставку на Габсбургов. Предлог был достаточно понятен многим, даже и его политическим противникам: обида на Россию, одарившую болгар столь обширными – согласно Сан-Стефанскому договору – землями. (Такой резкий поворот был бы маловероятен, будь главой правительства Йован Ристич. Однако, легендарный премьер был отправлен князем в отставку (1880), а вместо него был назначен человек, полностью лояльный амбициозному самодержцу).
Шаг этот воплотился в заключении «Австро-Сербской конвенции», секретном соглашении, подписанном в Белграде на Видовдан 28 июня 1881 года.
«Тайная конвенция». Видовданское унижение Сербии
Незадолго до подписания Конвенции был заключен торговый договор, по которому Сербия могла экспортировать свои товары только в Австро-Венгрию, тем самым подчиняя свою экономику воле монархии. Подписание этих двух документов было согласовано перед Берлинским конгрессом; в частности, Йован Ристич пообещал подписать эти два договора, построить сербскую железную дорогу для монархии, а также отказаться от Нови-Пазарского санджака в обмен на представление сербских интересов на сессии Берлинского конгресса. [4]
«Тайную конвенцию»* подписали тогдашний министр иностранных дел Сербии Милутин Гарашанин и министр финансов Чедомиль Миятович.
Австро-Венгрия соглашалась признать Сербию королевством и содействовать такому признанию со стороны других европейских государств, Обреновичам была обещана личная безопасность; не мешать расширению при благоприятных обстоятельствах южных владений Сербского княжества за счёт находившихся под властью Османской империи земель Старой Сербии за исключением Ново-Пазарского санджака (статья 7).
В свою очередь Сербия обязывалась не заключать политических соглашений с иностранными государствами без предварительного согласия Австро-Венгрии (статья 4), не допускать на свою территорию иностранные войска, не допускать агитации на своей территории против интересов Австро-Венгрии, особенно в Боснии и Герцеговине и Новопазарском Санджаке.
С заключением этой сделки Обреновичи изменили свою внешнеполитическую ориентацию с Российской империи на Австро-Венгрию, и сербская политика следовала этому австрофильскому курсу вплоть до падения династии Обреновичей в 1903 году. По сути, после подписания соглашения (изначально срок действия ограничивался десятью годами) Сербия стала, по словам будущего короля Сербии Петра I Карагеоргиевича, «простым данником Австрии».
Конвенция была продолжена в 1889 году и действовала до 1 января 1895 года. Тайное соглашение временно укрепило положение князя (с 1882 года короля) Милана, но когда детали тайного договора стали достоянием общественности (1893 г.), это спровоцировало огромное недовольство как в народе, так и в политических кругах, которые восприняли Конвенцию как национальное унижение.
«Новый глава кабинета М.Пирочанац в своих переговорах с заместителем министра иностранных дел монархии Габсбсургов Б.Каллаи прямо поставил вопрос о толковании наиболее сомнительной для сербов четвёртой статьи документа и о подписании специального дополнения к основному тексту конвенции. В результате стороны приняли решение рассматривать её положения лишь как обязательство сербской стороны не заключать каких-либо международных соглашений, идущих вразрез с нормами рассматриваемого соглашения; что, однако, не могло изменить её сути». [5]
Король пользовался всё меньшей политической поддержкой в народе и Скупщине, где набирали силу оппозиционные партии, особенно Радикальная, что ослабляло королевскую власть и приводило к дестабилизации государства.
Говоря о династическом противоборстве внутри сербского общества XIX века, обычно подразумевают противоборство между Обреновичами и Карагеоргиевичами. Но ведь была ещё одна линия противостояния: между Сербией и Черногорией. Черногория так же претендовала на роль воплощения древних традиций доосманской державы Неманичей.
Князь Черногории Никола I Петрович в пику Обреновичам выдал свою дочь принцессу Любицу (прозванную Зорькой Черногорской) за изгнанного из Сербии принца Петра Карагеоргиевича. Находясь в эмиграции, молодой Карагеоргиевич окончил Сен-Сирскую военную школу. В чине капитана сражался на стороне Франции во Франко-Прусской войне (1870-71) и за храбрость был награжден орденом Почетного легиона. В 1875-76 гг. под именем Петра Марковича принял участие в Герцеговинском восстании.
Брак нарушил неустойчивый баланс сил и вызвал тревогу не только в Белграде, но также в Вене и в Санкт-Петербурге, т.к. от потомка легендарного Карагеоргия, демонстративно поддержанного князем мятежной Черногории, можно было ожидать чего угодно.
А к лету 1882 года ситуация в стране усугубилась экономическим кризисом, а также продолжавшимся конфликтом самодержца с церковью.
Изменение общественного статуса церкви в Сербии в конце XIX века
В предыдущих частях очерка мы обращали внимание на то – насколько сильной и глубоко осмысленной была православная культура сербов, особенно, сербов пречанских, живших бок о бок с мусульманами и католиками Боснии и Герцеговины.
Но уровень общественно-политической самоорганизации православных сербов мешал не только лишь злокозненным иезуитам и прочим проводникам политики Габсбургов.
Патриархальный уклад, традиции народной соборности мешали как авторитарным правителям, так и искренним «напреднякам», стремившимся как можно скорее насадить начала «прогресса», который непременно превратит Сербию в разновидность Франции.
И старое патриархальное отношение народа к Церкви начало мало-помалу меняться. Державный Устав 1869 г., в разработке которого принимал участие в числе прочих и митрополит Белградский Михаил, регулировал отношения между государством и Церковью. Церковь всё больше становилась зависимой от державы.
Идея нового, современного сербского государства, существенно отличалась от того образа средневековой державы Неманичей, которая была и оставалась идеалом для православных сербских родолюбов. Новые поколения сербских интеллектуалов, воспитанных на Западе, либо подпавших под влияние российских леваков, приносили в страну теплохладное отношение к вере отцов, а порою они сами становились воинствующими безбожниками, пропагандировавшими атеизм.
«То, что в своё время делал Досифей Обрадович по отношению к Церкви и священства, подхватил и углубил во второй половине XIX века Светозар Маркович, который в Сербии обильно сеял семена безверия. В своём труде «Реальное направление науки и жизни» Светозар Маркович исходит из утверждения того, что вера и суеверие «произошли из одного источника. Вера – то же самое, что и суеверие, только признанное официально». [6]
Впрочем, справедливости ради, отметим, что отношение Светозара Марковича к Сербской Православной Церкви было значительно доброжелательнее, нежели к Римо-Католической. Но не стоит обольщаться из-за этого: Маркович с неприкрытым сарказмом относился к Христианству. Согласно его убеждению, христианская вера у сербов «состояла практически из обычаев, хотя они в большинстве своём были народного происхождения, лишь приобрели некоторый церковно-религиозный облик. Народ держался своих обычаев и веры как святыни, которую он обязан был защищать. Но и мораль Христовой веры не была усвоена в сербском народе, и священство не было фанатиками догм, и даже сербская церковная иерархия не была твёрдо организована в борьбе против светской власти, подобно тому, как иерархия католической церкви на Западе», цитирует Марковича Джёко Слипчевич в «Истории Сербской Православной Церкви». [7]
Исходя из этого Маркович делал ошибочный вывод, будто существует различие между пониманием веры у низшего и у высшего духовенства. Якобы приходские попы – это просто «мужики в рясах», а епископы – представители собственно духовного сословия, «бюрократической партии».
Несмотря на то, что Светозар Маркович не был воинствующим антиклерикалом, его идеи весьма неблаготворно подействовали не только на тех, за кого он боролся, не только на интеллигенцию, но и на определённую прослойку священства. Это – известный феномен церковной жизни. Когда священник, на практике сталкивающийся с теми или иными неприглядными реалиями церковной жизни – например, обрядоверием простого народа, или маловерием некоторых своих собратьев-батюшек, или же с нехристианским отношением епископата к пастве и клиру, – такой священник откликается на антиклерикальную критику, находя в ней отзвуки и своих горьких мыслей. Беда в том, что нередко в подобных ситуациях огорчённый теми или иными нестроениями батюшка слышит в антицерковной критике то, чего там нет, и, увы, не слышит того, что там в этих пасквилях буквально вопит против самой веры, а не против суеверий и непотребств. Происходит какое-то затмение, неразличение самого духа…
Единомышленников Светозара Марковича хватало среди сербского священства. Однако, вдохновлённые им священники вовсе не становилось безбожниками, но превращались, по словам Йована Скерлича, в «апостолов радикальной партии». С одной стороны, это приводило к «воцерковлению» сербского политического радикализма, но, с другой стороны, нередко «православность» политиков была чисто внешней, а вместе с этим падал и авторитет священнослужителей, которые воспринимались порою как политические агитаторы.
Джёко Слипчевич отмечает ещё и то, что политизация сербского клира привела не к росту политической неграмотности среди православно верующего народа, но заложило основы расщепления некогда монолитного сербского национального корпуса. С этим утверждением можно поспорить. Дело в том, что в Королевстве Сербии чуть позже рассматриваемого в очерке времени, т.е. на рубеже XIX-XX веков, безусловными лидерами в политике были радикалы, возглавляемые легендарным Николой Пашичем. Поэтому о расколе сербского народа по политическим предпочтениям – как нам кажется, наблюдая за процессами со стороны – говорить не вполне корректно.
Митрополит Белградский и архиепископ Сербский Михаил (Йованович) ясно видел опасность, которая угрожает Церкви от активности антиклерикалов и политизации священства. Однако, справедливости ради, отметим, что постановления Архиерейского собора о нежелательности участия приходских священников в политической жизни было принято уже после того, как митрополита Михаила сместили с Белградской кафедры, и его место занял ставленник партии Напредняков, ибо, как мы помним, приходское священство как правило агитировало за Радикалов.
Смещение митрополита Михаила было одним из проявлений буквы и духа Тайной конвенции.
«Церковный вопрос» 1881 года
Столкновение между митрополитом Михаилом и партией Напредняков, бывшей у власти, превратилось в проблему «Церковного вопроса», которая будоражила Сербию все 1880-е.
Слободан Йованович пишет: «Напредняки ненавидели митрополита Михаила как одного из столпов Либеральной партии. А ещё больше, чем напредняки, его ненавидел князь Милан… Австрийцы были извещены, что митрополит агитирует посредством священников в Боснии, и потребовали от князя эту агитацию пресечь. Этой «отмашки» из Вены было достаточно, чтобы князь решился на низвержение митрополита. Ему казалось, что митрополит – главная препона осуществлению его австрофильской политики, которую он воспринимал как единственно верную и единственно возможную. Уже в 1881 свержение митрополита было делом решённым; ожидался только удобный повод». [8]
(У князя Милана были и личные счёты с митрополитом. Владыка отказывался развести Милана с его женой Натальей, дамой, впрочем, эксцентричной).
В 1881 г. был принят закон «О сборах» («Закон о таксама»), вводивший выплату казне пошлин за рукоположения иерархов, пострижение в монашество и другие церковные назначения. Митрополит тщетно просил министра просвещения и церковных дел Стояна Новаковича отменить этот закон. Владыка недоумевал: «Как можно взимать некую таксу с тех, кто принимает монашеский чин?»
Новакович ответил так: «Весьма сожалею, но истинный факт, что причина этого, очевидно, в ослабевшем, практически утраченном в народе авторитете Церкви и её служителей, …в видимом недостатке крепкой дисциплины, живой отзывчивости и подготовленности к своему призванию. Это – откровенный отзыв о церковных делах самых лучших людей из народа, и этим мыслям и впечатлениям народное представительство дало сильное выражение, установив, почти единогласно, таксы…» [9]
Поскольку митрополит был предстоятелем Церкви уже двадцать лет, то столь плачевное состояние священства вменялось в вину именно ему лично.
21 сентября состоялся Архиерейский Собор, и на следующий день было принято заключение, что в нынешней редакции «Закон о таксах» принят быть не может.
Тогда 15 октября Новакович устроил допросы всех иерархов по отдельности. К сожалению, судя по воспоминаниям епископа Моисея («Црквено питање у Србиjе». Београд, 1895), фрагменты которого приводит в своём фундаментальном труде Джёко Слипчевич, некоторые владыки, третированные министрами князя Милана, были не на высоте, и давали путаные показания. Это, по сути, дезавуировало ясную и недвусмысленную позицию митрополита Михаила: «Закон не может пройти и не пройдёт!»
Напредняки вывернули дело так, будто архиереи на Соборе говорили одно, а митрополит, якобы, от их имени объявил совсем иное. Новакович не замедлил преподнести владыку в качестве «бунтовщика», и 18 октября 1881 г. князь Милан Обренович издал указ об отстранении митрополита Михаила от управления Белградской митрополией и назначении её временным управляющим вышеупомянутого еп. Неготинского Моисея (Вересича).
Епископ Моисей много позже отмечал, что свержение митрополита Михаила было «лишь неизбежным следствием его дел, ведь весьма тяжко представить себе власть, которая бы могла и смела не поднять столь дерзко брошенную ей перчатку». Далее он добавлял, что, с одной стороны, смещение митрополита Михаила было «актом державной необходимости», но с другой стороны, способом, которым было всё это учинено, «власть перешла границы легальной силы своей и шагнула в насилие». [10]
Владыка Михаил, отдавший управлению Белградской митрополией 22 года жизни, неутомимо работавший на ниве просвещения пастырей, человек, с чьим именем связано обретение полной независимости Сербской церкви от греков, человек, уважаемый не только во всём православном мире, но и в среде искренних панславянистов-католиков…. был буквально вышвырнут. Без всяких церемоний и без какой бы то ни было пенсии.
Его смещение произвело неизгладимое впечатление на епископат. Архиереям было недвусмысленно показано, что они вовсе никакие не владыки, но… чиновники, которых министр может миловать, а может и карать.
21 октября они подали министру просвещения и церковных вопросов акт, в котором, в числе прочего, значится следующее: «Когда архиерей разрешается от должности и уклоняется с поста без решения надлежащего суда, и без пенсии, и признания служебного стажа, то тем самым положение архиереев доводится в состояние бесправия. Собор архиерейский с глубоким сожалением видит, что этим положение архиереев становится иллюзорным и бесправным, и отечественные архиереи, оказавшись в таком униженном и бесправном положении, не могут с достоинством вершить свои тяжкие обязанности, которые имеют и по отношению к Церкви и по отношению к державе. Вследствие чего, далее оставаться управляющими доверенных им епархий не представляется возможным…» [11]
Все эти протесты не повлияли на сербскую власть.
31 декабря 1882 г. был принят закон «Об изменениях и дополнениях в закон «О церковных властях православной веры»», который позволил правительству полностью сменить всю иерархию Белградской митрополии.
Согласно этому закону министр просвещения и церковных дел получил широкие права надзора над работой Архиерейского собора и епископов: решение Собора кладут на стол министру для одобрения, епископы получают права госчиновников, получая твердый оклад.
Епископат теперь был не просто обесправлен, но Церковь земная лишилась права возвышать свой голос, влиять на принятие властью решений, в том числе, решений, судьбоносных для всего народа, для Сербской православной церкви.
***
Как видим, политическая ситуация, сложившаяся в Княжестве Сербии в указанную эпоху, подталкивала Милана Обреновича в объятия Австро-Венгрии, что было весьма благоприятным фактором, облегчающим Габсбургам осуществление колониальной политики в Боснии и Герцеговине.
Окончание следует
Приложение
Текст «Тайной конвенции»
Секретный договор или тайная конвенция были подписаны Чедомилем Миятовичем и бароном Гербертом 16/28 июня 1881 г. в Белграде.
Его величество царь Австрии, король Богемии и др. и апостольский король Венгрии и Его Высочество князь Сербии, вдохновлённые желанием сохранить мир на Востоке и гарантировать отношения совершенной дружбы, существующей между их правительствами, за исключением неких случайностей, решили заключить Соглашение для этой цели и назначили уполномоченных лиц:
Его Царское и Королевское Величество:
Господина Габриэля барон Герберт-Раткеаля, своего капеллана, посланника в Сербии и т. д.,
Его Величество Князь Сербии:
Господина Чедомиля Миятовича, своего министра иностранных дел и т. д. и т.д.,
Которые, обменявшись своими доверенностями и обнаружив, что они находятся в действительной и надлежащей форме, договорились о следующих статьях:
1. Между Австро-Венгрией и Сербией будет прочный мир и дружба. Два правительства обязуются проводить взаимно дружественную политику.
2. Сербия не будет терпеть политических, религиозных или иных интриг, направленных против Австро–Венгерской монархии (включая Боснию, Герцеговину и Нови-Пазарский санджак), которые будут действовать со своей территории.
(2. Србија неће толерисати политичке, верске или друге сплетке које, узимајући своју територију за тачку поласка, управљају против Аустро–Угарске монархије, подразумевајући ту Босну, Херцеговину и Новопазарски санџак).
Австро-Венгрия берёт на себя такое же обязательство в отношении Сербии и её династии, поддержанию и утверждению которой поможет всем своим влиянием.
3. Если князь Сербии сочтет необходимым в интересах своей династии и своей страны принять для себя и своих наследников титул короля, Австро–Венгрия признает этот титул, как только прокламация будет сделана в законных формах, и будет использовать своё влияние, чтобы Сербия получила признание и от других держав.
4. Австро-Венгрия будет использовать своё влияние, чтобы представлять интересы Сербии у великих держав.
Помимо предыдущего соглашения с Австро-Венгрией, Сербия не будет вести переговоры или заключать политическое соглашение с каким-либо другим правительством и не будет принимать на своей территории иностранную армию, регулярную или нерегулярную, даже под названием добровольцев.
5. Если Австро–Венгрии будет угрожать какая-либо война или она окажется в состоянии войны с одной или несколькими державами, Сербия по отношению к Австро-Венгерской монархии, считая Боснию и Герцеговину и Нови-Пазарский санджак, примет дружественный нейтралитет и сделает всё возможное, согласно их тесной дружбе и духу этого договора. Австро-Венгрия берёт на себя такое же обязательство перед Сербией в случае, если ей грозит война или она будет на войне.
6. В случае, если обе договаривающиеся стороны сочтут, что необходимо военное сотрудничество, вопросы, касающиеся этого сотрудничества, в частности вопросы верховного командования и возможного перехода войск через территории того или иного государства, будут регулироваться военной конвенцией.
7. Если в силу событий, развитие которых нельзя предсказать сегодня, Сербия сможет расширяться в направлении своих южных границ (за исключением Нови–Пазарского санджака), Австро-Венгрия не будет этому противиться и будет стремиться к тому, чтобы другие державы придерживались позиции, благоприятной для Сербии.
8. Этот договор будет оставаться в силе в течение десяти лет, считая со дня изменения ратификации. За шесть месяцев до его истечения договаривающиеся стороны согласятся, если потребуется, о его продлении или изменениях, которые посчитают необходимыми.
9. Договаривающиеся стороны обязуются держать этот договор в секрете и без предварительного соглашения не сообщать любому другому правительству ни о его существовании, ни о его содержании.
10. Договора будет ратифицирован в Белграде в течение пятнадцати дней или раньше, если это будет возможно.
(Јакшић Гргур. Из новије историје Србије. Београд: Просвета, 1953, стр. 79-80.)
Литература:
[1] История XIX века под редакцией профессоров Лависса и Рамбо. Т.7., М., ОГИЗ, 1939, стр. 449;
[2] Там же, стр. 451;
[3] Там же, стр. 452;
[4] Јакшић Гргур. Из новије историје Србије. Београд: Просвета, 1953, стр. 79-80;
[5] Искендеров П.А. «Сербия при Обреновичах» // «В «Пороховом погребе Европы». 1878-1914». М., «Индрик», 2003. Стр.169
[6] Др. Ђоко Слиjепчевић. Историjа Српске Православне Цркве. Т. II., Београд, 2002, стр. 366;
[7] Там же;
[8] Слободан Jовановић, Влада Милана Обреновића, књ. II., Београд, 1934, стр. 409;
[9] Др. Ђоко Слиjепчевић. Историjа…, стр. 391;
[10] Там же, стр. 396-397;
[11] Там же, стр. 398;