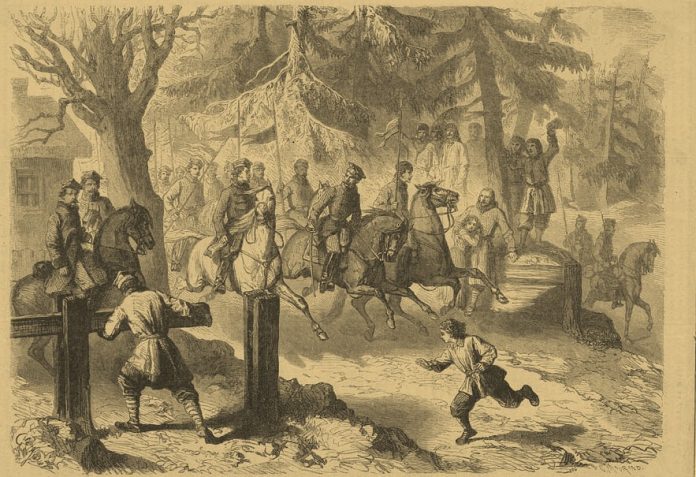Традиционное противостояние России и Польши, которое периодически перерастало в кровопролитные военные столкновения, постоянно привлекало самое пристальное внимание словацких и чешских интеллектуалов. Польские восстания 1830-1831 и 1863-1864 годов, направленные на отделение от России и на возрождение Речи Посполитой в границах 1772 г. существенно усилили интерес словацкой и чешской общественности и академических кругов к истокам и первопричинам русско-польского противоборства, которое приобрело в XIX веке поистине антагонистический характер.
На отношение словаков и чехов к польско-русскому историческому спору сильный отпечаток накладывало то обстоятельство, что с начала XIX века в чешских и словацких землях активно распространялись идеи славянской взаимности, которые приобрели большую популярность среди местного населения. По этой причине местная общественность изначально очень позитивно относилась и к России, и к Польше, усматривая в русских и поляках братские славянские народы. Один из главных идеологов славянской взаимности, словак Ян Коллар трактовал всех славян как единую этнокультурную общность, разделенную на четыре «племени», одним из которых было русское «племя», в состав которого входили великороссы, малороссы и белорусы (Dejiny Slovenska 2000)[1]. По этой причине словаки и чехи воспринимали русско-польские конфликты очень болезненно и эмоционально.
Россия вызывала симпатии словаков и чехов как единственная мощная и независимая в начале XIX века славянская держава, в которой словацкая и чешская интеллигенция усматривала потенциального защитника и покровителя всех угнетённых славян – как австрийских, так и турецких. Мощным стимулом роста прорусских настроений у словаков и чехов стали наполеоновские войны, в ходе которых чешское и словацкое население имело многочисленные дружеские контакты с русской армией в 1799 и в 1813 годах. Кумиром пражан стал, например, знаменитый русский полководец Александр Васильевич Суворов, который провёл в Праге весь декабрь 1799 г. и который сразу покорил жителей чешской столицы своей простотой, обходительностью, добротой, искренней набожностью и чувством юмора. Горячим поклонником А.В. Суворова был крупнейший словацкий национальный деятель XIX века Людовит Штур, который в своём главном труде «Славянство и мир будущего» эмоционально писал о Суворове как о муже «железной воли, самой скромной внешности, глубочайшей набожности и бесконечной доброты» (Штур 1867: 125)[2]. Разумеется, отношение поляков к личности А.В. Суворова было диаметрально противоположным.
Что касается Польши, то она вызывала искреннее сочувствие чехов и словаков как страна, лишившаяся независимости в результате насильственных разделов в конце XVIII века, в чём чехи и словаки, лишённые в то время собственной государственности, усматривали определённые параллели с собственной исторической судьбой. Значительная часть чешской и словацкой интеллигенции умудрялась сочетать как русофильские, так и полонофильские настроения.
Безусловно признавая за поляками право на возрождение своего государства, значительная часть либерально настроенного чешского и в меньшей степени словацкого общества первоначально симпатизировала полякам, что проявилось в ходе первого польского восстания в 1830-1831 годах. Однако по мере изучения и более глубокого понимания исторических корней и истоков русско-польского конфликта отношение чешских и словацких интеллектуалов к Польше становилось всё более критическим, а к России всё более понимающим, что принципиальным образом отличало чешскую и словацкую общественность от Западной Европы, общественные круги которой не знали и не желали знать подлинных причин русско-польских противоречий и однозначно поддерживали поляков. Важную роль в подобной эволюции чешского и словацкого общественного мнения сыграло польское восстание 1863-1864 годов и ожесточённые дискуссии вокруг этого события.
Чешские и словацкие интеллектуалы, прежде всего историки, сразу обратили внимание на то, что главный и неизменный лозунг польских повстанцев – возрождение Речи Посполитой в границах 1772 года – по умолчанию подразумевал вхождение в состав возрождённой Польши обширных исторических земель Западной Руси, включая Белую и Малую Русь, а также этнографическую Литву. Между тем, уже в первых классических трудах по древней истории и этнографии славян один из основоположников научного славяноведения Павел Йозеф Шафаржик, словак по происхождению, подчёркивал безусловное историческое единство русских славян в составе великороссов, малороссов и белорусов, предки которых сумели – в отличие от южных и западных славян – создать в IX веке единое и могучее восточнославянское государство – Древнюю (Киевскую) Русь, достигшую в короткое время блестящих цивилизационных высот. Подробно анализируя особенности малорусского и белорусского «наречий» в своём классическом труде «Славянская этнография», П.Й. Шафаржик неизменно подчёркивал литературно-языковое единство малороссов и белорусов с великороссами (Šafařík 1842: 28-32)[3].
Именно вопрос исторической принадлежности Западной Руси и стал одним из главных, на котором заостряли внимание чешские и словацкие интеллектуалы-историки, критически воспринявшие польское восстание 1863 г. и активно полемизировавшие в этом вопросе с чешскими публицистами и журналистами, которые, часто будучи исторически невежественными, в основном поддерживали польских повстанцев.
Одним из самых убеждённых критиков польского восстания 1863-1864 гг. был известный чешский историк и политик Франтишек Палацкий, по убеждённому мнению которого, данное восстание стало «огромным несчастьем для всех славян вообще и для поляков в особенности» (Národní Listy. 8.VI.1863)[4]. По словам чешского политика и историка, «только революционеры и враги славян, а также крайне недальновидные и несамостоятельные в своих суждениях люди могут радоваться военным действиям в Польше» (Národní Listy. 8.VI.1863)[5]. По мнению Палацкого, польское восстание было выгодно только тем, кто опасался растущего могущества России, и кто планировал воспрепятствовать этому путём возрождения Польши; при этом выгоду от этого, как полагал Палацкий, получат в первую очередь германские государства, а Польша станет орудием их политики (Národní Listy. 8.VI.1863)[6].
Критически отзываясь о польской шляхте, Палацкий указывал, что ненавидимая собственными крестьянами шляхта способна одержать победу только с чужой помощью, главным образом с помощью немцев, которые впоследствии неминуемо сделают Польшу полностью зависимой от немецкой политики. Более того, Палацкий дал резко негативную оценку польской шляхте и в более широком социокультурном и историческом контексте, подчеркнув, что она давно утратила собственную «славянскость» и была не в состоянии адекватно воспринять происходившие события (Palacký 1977: 54)[7].
Примечательно, что аналогичные, даже более критические мысли по поводу польской шляхты высказывал в своих трудах и словацкий мыслитель и политик Л. Штур, указывавший на то, что в силу своего чрезмерного сословного эгоизма и общей деградации шляхта превратилась в инструмент антиславянской и антироссийской политики не только западных стран, но и Османской империи.
В своей реакции на популярные в чешской либеральной полонофильской прессе восторженные панегирики польскому вольнолюбию и свободомыслию, Палацкий иронично обращал внимание своих оппонентов на то, что вольнолюбивая польская шляхта полностью равнодушна к судьбе своих угнетённых крестьян, но при этом она совершенно безосновательно присваивает себе право господства «даже над русским Киевом». Помимо этого, Палацкий в крайне критическом контексте затронул и полностью табуизированный в западной и либеральной чешской прессе сюжет о широко практиковавшихся польскими повстанцами карательных акциях в отношении тех, кто не поддержал данного восстания.
Весомую поддержку Ф. Палацкому в его полемике с оппонентами оказал его единомышленник и коллега по партии Ф. Ригер, который в своей статье, опубликованной 14 июня 1863 г. в газете «Народни листы», подчеркивал, что речь, в сущности, идёт о борьбе между братьями, которая доставляет радость «только недругам всего славянского рода. От этой борьбы кровью истекает всё славянское племя…» (Žaček 1935: 56)[8].
Что касается конкретных деталей польской борьбы за восстановление независимости, то Ригер одним из первых среди чешских публицистов обратил внимание на то, что поляки стремятся к возрождению «старой Польши», включавшей и земли Малой и Белой Руси, которая как в языковом, так и в историческом отношении всегда была составной частью России. Апеллируя к авторитету чешских и словацких учёных-славистов Й. Добровского и П. Й. Шафаржика, Ригер указывал, что «язык малорусский есть русское наречие» и против этого очевидного факта «бессильны все изобретения польских дилетантов». Именно поэтому, как резюмировал Ригер, «справедливый и компетентный чех не может признать право поляков на малорусские земли… Если бы Россия отдала малороссов полякам, то они подверглись бы ополячиванию и окатоличиванию. Но русский народ на это не пойдёт…» (Žaček 1935: 58)[9]. Ригер, который внимательно следил за ходом восстания и за поведением сторон, также сделал любопытное замечание о том, что в русско-польском споре русские всегда выступают с более умеренных позиций, тогда как поляки «всегда отзываются о русских с ярко выраженной непримиримостью и враждебностью» (Žaček 1935: 58)[10].
В более развёрнутом виде Палацкий изложил своё отношение к польскому вопросу в статье, опубликованной 5 февраля 1864 г. в газете «Народ». Чешский историк здесь указывал, что если поляки действительно борются только «за свободу», то с ними согласятся все. Однако принципиально важный нюанс, по мнению чешского историка, состоит в том, что поляки в своём стремлении «к свободе» подразумевают под ней восстановление «старой Польши в границах 1772 года. Иными словами, речь идёт о господстве поляков в Литве, Подолии и на Украине» (Palacký 1977: 58)[11]. Однако, по глубокому убеждению чешского мыслителя, данные области Западной Руси в силу совершенно очевидных исторических причин принадлежат исключительно России, поскольку именно здесь находилась колыбель русской государственности, что чешский мыслитель легко доказывает, опираясь на общеизвестные исторические факты. Именно поэтому, по мнению Палацкого, действия поляков неизменно сталкиваются и будут сталкиваться с патриотическими чувствами русских, побуждая их к сопротивлению и к борьбе за свои исконные земли. «Царь является абсолютным монархом в своей империи, но у него нет такой власти, которая позволила бы ему добровольно уступить полякам колыбель своей империи, – отмечал Палацкий. – Если бы он хотел поступить таким образом, то неминуемо был бы проклят своим народом…» (Palacký 1977: 58)[12].
***
Ожесточённая и бурная полемика в Чехии по поводу польского восстания вызвала гневную реакцию словацких печатных изданий. Издававшиеся в Будапеште ведущая словацкая политическая газета «Пештбудинские ведомости», которая внимательно следила и за ходом восстания, и за публикациями в чешской прессе, летом 1863 г. в серии своих публикаций обвиняла чехов в том, что те, по сути, солидаризируются с немцами «в брани и ругани в адрес русских, тщательно выискивая или выдумывая что-нибудь против России…» (Peštbudínské vědomosti. 12.VI.1863)[13].
В своей характеристике польского восстания данная словацкая газета отмечала, что Польша в действительности не борется за «нашу и вашу свободу», а ведет борьбу «не против русского правительства, но против самого русского народа…» (Peštbudínské vědomosti. 12.VI.1863)[14]. Очевидно, что газета исходила из принадлежности коренного населения Малой и Белой Руси к русскому народу.
Наиболее радикальной критике польских повстанцев подверг известный чешский литератор и публицист Франтишек Йезбера в своей брошюре «Русские, сербы, поляки и чехи с остальными славянами». В своей оценке сути польско-русского спора в 1863 г. Йезбера полностью согласился с русским историком-славистом А.Ф. Гильфердингом, который считал, что речь здесь шла не об освобождении польской народности, а о попытке разделить русский народ и разрушить Российское государство. Ф. Йезбера также полагал, что в действительности речь идёт «о раздроблении русского народа» и восстановлении «в западной части русских земель ига польского меньшинства над русским народом и о разрушении Российской империи» (Jezbera 1863: 53)[15]. Таким образом, Йезбера, Палацкий и Ригер оказались в то время в числе немногих чешских интеллектуалов, кто в полной мере осознал истинные и глубинные цели польской восточной политики, которые столь ярко проявились позже в идеологии и практике «прометеизма» уже в межвоенный период, когда Польша преследовала свои неизменные цели – расчленение исторической России, которая в то время существовала в форме СССР.
Развивая мысли, высказанные ранее Палацким и Ригером, Йезбера подчеркивал, что польские повстанцы претендуют не только на польские этнические земли, но и на обширные русские области, где, по его словам, «русский народ был и остается ядром населения. Поляки ссылаются на некое историческое право… Напоминаю, – писал Йезбера, – что есть более святое право – право национальное. Польские повстанцы в своей гордости и спеси встали под ложное знамя…; их лозунг «за нашу и вашу свободу» является ложным. Они стремятся не к свободе и равноправию, а к господству» (Jezbera 1863: 62)[16].
Данные мысли Йезбера проиллюстрировал убедительными статистическим данными, подтверждавшими, что поляки составляли незначительное меньшинство в малороссийских и белорусско-литовских губерниях. Как подчёркивал чешский публицист, из 1.804.970 населения Киевской губернии этнические поляки составляли лишь около 100.000; из 877.200 населения Гродненской губернии численность поляков не превышала 82.000 человек. «Проанализировав статистические данные, – резюмировал чешский публицист, – мы можем убедиться в том, что на землях, где поляки хотят восстановить свое господство, проживает 11.274.287 русских и лишь около 600.000 поляков. В землях, где звучит польский язык, каждый благородный славянин желает братскому польскому племени свободу, но требовать, чтобы незначительное польское меньшинство господствовало над русским большинством, карая и наказывая его, есть преступление…» (Jezbera 1863: 66)[17].
В заключение Йезбера напоминал «надменным и высокомерным полякам» то время, когда они безнаказанно господствовали над Западной Русью, и, по словам чешского публициста, всячески «истребляли и обрекали на муки православную веру и русскую народность. Все то, что их постигло, – эмоционально утверждал Йезбера – есть не что иное, как наказание за их нехристианскую гордость и высокомерие» (Jezbera 1863: 73)[18].
Таким образом, наиболее видные чешские и словацкие интеллектуалы, в отличие от заангажированной и совершенно не знающей славянской истории западноевропейской публики, сумели безошибочно определить суть польско-русского противостояния, которая заключалась в стремлении поляков восстановить своё господство над историческими землями Западной Руси. Примечательно, что аналогичные взгляды выражали в то время и известные русские историки А.Ф. Гильфердинг, М.И. Коялович и другие.
ЛИТЕРАТУРА
Штур, Л. Славянство и мир будущего. Послание славянам с берегов Дуная. Москва, 1867.
Dejiny Slovenska. Brastislava: AEP, 2000.
Jezbera F.J. Rusové, Srbové, Poláci a Čechové s ostatními Slovany. S povyjasněním nevzajemného a nepravého vzhledu některých listův českých na polsko-ruskou záležitost. V Praze, 1863.
Národ. 5.II.1864.
Národní Listy. 8.VI.1863.
Palacký F. Úvahy a projevy. Praha: Melantrich, 1977.
Peštbudínské vědomosti. 12.VI.1863.
Šafařík P.J. Slowanský národopis. V Praze, 1842.
Žaček V. Ohlas polského povstání r. 1863 v Čechách. Praha, 1935.
[1] См. Dejiny Slovenska. Brastislava: AEP, 2000.
[2] Штур, Л. Славянство и мир будущего. Послание славянам с берегов Дуная. Москва, 1867. С. 125.
[3] Šafařík P.J. Slowanský národopis. V Praze, 1842. S. 28-32.
[4] Národní Listy. 8.VI.1863.
[5] Ibidem.
[6] Ibidem.
[7] Palacký F. Úvahy a projevy. Praha: Melantrich, 1977. S. 54.
[8] Žaček V. Ohlas polského povstání r. 1863 v Čechách. Praha, 1935. S. 56.
[9] Ibidem. S. 58.
[10] Ibidem.
[11] Palacký F. Úvahy a projevy. Praha: Melantrich, 1977. S. 58.
[12] Ibidem.
[13] Peštbudínské vědomosti. 12.VI.1863.
[14] Ibidem.
[15] Jezbera F.J. Rusové, Srbové, Poláci a Čechové s ostatními Slovany. S povyjasněním nevzajemného a nepravého vzhledu některých listův českých na polsko-ruskou záležitost. V Praze, 1863. S. 53.
[16] Ibidem.
[17] Ibidem. S. 66.
[18] Ibidem. S. 73.