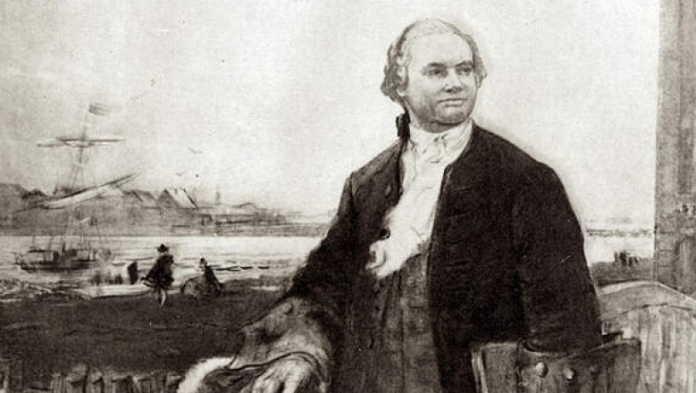В нынешнем году исполнилось 260 лет со дня кончины великого русского ученого – академика Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765). Многосторонний вклад этой выдающейся личности в науку, литературу и просвещение заслуженно получил самую высокую оценку у современников и потомков, и его имя бесспорно находится в ряду выдающихся мыслителей России. Исследования Ломоносова в области естествознания закрепили за ним славу ученого, утверждавшего самоценность научного познания, свободного от вмешательства Церкви, и постулировавшего единство видимого мира, движимого природными закономерностями (в работах «Элементы математической химии» и «Заметки по физике и корпускулярной философии»).
Однако М. В. Ломоносов не задавался целью создать или изложить какую-либо особенную философскую систему, оставаясь верным традиционному православному учению. В изучении его мировоззрения не следует игнорировать церковное воспитание и образование, которое он получил, читая на клиросе в приходской церкви у себя на родине и обучаясь затем в московской Славяно-греко-латинской академии. Безусловно, русский ученый был знаком с воззрениями Готфрида Лейбница (†1717) и особенно ученика последнего – Христиана Вольфа (†1754). Эти мыслители считали, что законосообразное устройство мира позволяет понимать его разумом и определяет этические нормы поведения людей. Догматические истины веры они пытались логически доказать с математической строгостью и наглядностью. Ломоносов, будучи слушателем Х. Вольфа в Марбурге, конечно, имел возможность испытать на себе влияния, популярные в среде немецких интеллектуалов. Однако отвлеченное учение Лейбница и Вольфа о монадах (своего рода духовных «атомах» Вселенной) не удовлетворяло русского ученого, который искал материальное, а не философское объяснение делимости видимого мира. Вообще, Ломоносов отдавал предпочтение физической конкретности перед умозрительными абстракциями. При этом научный поиск, по его мнению, имеет религиозную мотивацию: в устройстве природы познавать премудрость ее Творца. Данное убеждение академик высказывал неоднократно, так, свое публичное «Слово о происхождении света» он начал словами: «Испытание натуры трудно, слушатели, однако приятно, полезно, свято. Чем больше таинства ее разум постигает, тем вящее увеселение чувствует сердце. Чем далее рачение наше в оной простирается, тем обильнее собирает плоды для потребностей житейских. Чем глубже до самых причин толь чудесных дел проницает рассуждение, тем яснее показывается непостижимый всего бытия Строитель. Его всемогущества, величества и премудрости видимый сей мир есть первый, общий, неложный и неумолчный проповедник. Небеса поведают славу Божию».
Обращение к религиозной тематике присутствует особенно в поэзии М. В. Ломоносова, и оно не было у такой цельной личности случайной данью принятой литературной моде. Его поэтические переложения псалмов, а также «Утреннее» и «Вечернее размышление о Божием Величестве» написаны не только возвышенным слогом, но и отличаются глубоким и прочувствованным содержанием. Безусловно, ученый сочинитель высказывал здесь свои собственные мысли. Так, в поэтическом переложении последних глав библейской книги Иова после перечисления примеров божественного величия автор заключает:
«Сие, о смертный, рассуждая,
Представь Зиждителеву власть,
Святую волю почитая,
Имей свою в терпеньи часть.
Он все на пользу нашу строит,
Казнит кого или покоит.
В надежде тяготу сноси
И без роптания сноси».
В этих строчках ясно показывается убежденность в попечении Божием о человеке, несовместимая с положениями философии деизма, отвергающего Промысл Всевышнего о творении. Между тем, именно в деизме несправедливо подозревали М. В. Ломоносова некоторые исследователи его духовного наследия.
Среди публичных речей академика имеется одна, специально посвященная вопросу об отношении веры и науки, – его «Прибавление» к академическому выступлению «Явление Венеры на Солнце». Здесь ученый впервые привел доказательство существования атмосферы вокруг этой планеты и определенно высказался в пользу гелиоцентрической системы Коперника. Однако, имея в виду бытующие сомнения в возможности существования на других планетах условий для жизни, которые основывались на библейски толкованиях и авторитетах Католической церкви, Ломоносов остановил свое внимание на спорном предмете.
«Правда и вера, – говорил он, – суть две сестры родные, дщери одного Всевышнего Родителя: никогда между собою в распрю прийти не могут, разве кто из некоторого тщеславия и показания своего мудрования на них вражду всклеплет. А благоразумные и добрые люди должны рассматривать, нет ли какого способа к объяснению и отвращению мнимого между ними междоусобия, как учинил вышереченный премудрый учитель нашея Православныя Церкви (св. Иоанн Дамаскин – А. Х.). […] То есть: физические рассуждения о строении мира служат к прославлению Божию и вере не вредны».
Далее ученый высказывает уверенность, что если бы во времена великих отцов Церкви существовали современные астрономические приборы и открыты бы были тысячи новых звезд, то это только способствовало проповеди величия, премудрости и могущества Божия. Что же касается множества годных для обитания планет, Ломоносов напоминает слова евангельские: «Многи обители суть на небесах» (ср. : Ин. 14:2), то есть Богом могут быть предусмотрены и новые планеты для жизни людей в будущем.
Наконец, академик замечает, что вера и творение Божие не могут противоречить друг другу, противоречие возникает только от непонимания природы: «Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал Свое величество, в другой – Свою волю. Первая – видимый сей мир, им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту и стройность его зданий, признал божественное всемогущество, по мере себе дарованного понятия. Вторая книга – Священное Писание. В ней показано создателево благоволение к нашему спасению. В сих пророческих и апостольских богодохновенных книгах истолкователи и изъяснители суть великие церковные учители. А в оной книге сложения видимого мира сего суть физики, математики, астрономы и прочие изъяснители божественных, в натуру влиянных действий суть таковы, каковы в оной книги пророки, апостолы и церковные учители. Нездраворассудителен математик, ежели он хочет божескую волю вымерять циркулем. Таков же и богословия учитель, если он думает, что по Псалтири научиться можно астрономии или химии». Итак, предназначение ученого видится Ломоносову достаточно высоким и ответственным.
Что же касается отношения академика к современным ему церковным учителям, то оно вполне соответствовало принципу, обозначенному в последнем цитированном высказывании. М. В. Ломоносов не терпел вмешательства духовных иерархов в объяснение естественнонаучных вопросов. Необразованность таковых лиц он высмеял в сатирическом «Гимне бороде», который приобрел популярность. По поводу этого стиха его даже вызывали на разбирательство в Св. Синод. Однако с церковнослужителями, интересовавшимся научными знаниями, Ломоносов состоял в дружеской переписке, как это показывает пример его общения с архиепископом Архангельским Варсонофием (Щеныковым), которому он выслал свой перевод учебника физики Х. Вольфа. Вообще, ученый считал обязанностью духовенства подавать пример христианской жизни, а также учить малых детей даже до двенадцатилетнего возраста грамоте и Закону Божию (в примечаниях к рассуждению «О сохранении и размножении российского народа»).
Таким образом, М. В. Ломоносов, будучи оригинальным и разносторонним исследователем, оставался религиозным человеком в традиционном понимании и исключал противоречие науки и веры. Не случайно он перед своей кончиной, по свидетельству библиотекаря Академии наук И. К. Тауберта, мирно принял Причащение и Соборование.