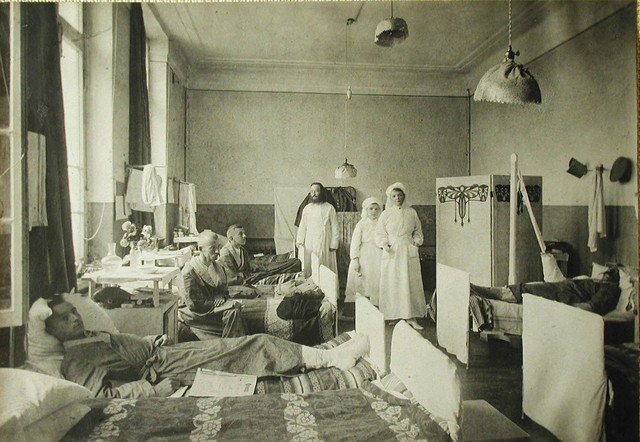Немалая роль принадлежит врачам сыновьям священников и в научных открытиях, в становлении новых направлений медицины. Это были люди наделенные особым даром – талантом, подкрепленным высочайшей работоспособностью и ответственностью за порученное дело. Для подбора научных кадров учебные заведения уделяли особое внимание отличившимся воспитанникам, создавали им условия для совершенствования профессиональных навыков и посылали за границу для прохождения практики в лучших медицинских учреждениях у лучших медиков Европы.
Таким был Забелин Иосиф Викентьевич – доктор медицины, ординарный профессор фармакологии С.-Петербургской медико-хирургической академии, родился в 1834 г. в Вятской губернии, где отец его был священником. Первоначальное образование получил в Полоцкой семинарии в 1854 г. и поступил в С.-Петербургскую медико-хирургическую академию, где в 1858 г. получил звание лекаря с отличием и был награжден золотой медалью с внесением его имени на мраморную доску.
На основании Высочайшего повеления, при Академии были учреждены специальные курсы, и Забелин в числе лучших десяти воспитанников был оставлен на три года при этих курсах, с прикомандированием ко второму военно-сухопутному госпиталю.
Первое научное исследование по фармакологии, обратившее внимание медицинского ученого мира на Забелина, было «О влиянии мышьяковых солей на метаморфоз веществ в организме». Затем появилась его вторая работа по физиологии, за защиту которой в 1861 г. получил степень доктора наук. В этом же году получил ученое звание доцента фармакологии; а в 1862 г. был послан Академией за границу для дальнейшей специализации в фармакологии и оставался там в течение трех лет.
За границей Забелин посетил все наиболее замечательные биолого-химические лаборатории, и в это время появился в заграничной печати его научный труд, обративший на себя внимание заграничного медицинского мира и вошедший потом во все руководства.
По возвращению из-за границы Забелин был приглашен преподавать фармакологию при С.-Петербургской медико-хирургической академии в звании приват-доцента, а через два года был избран и утвержден адъюнкт-профессором по кафедре фармакологии, и в 1868 г. был назначен ординарным профессором при той же кафедре.
Забелин устроил прекрасную лабораторию , и в Академии при нем впервые лекции фармакологии, опираясь на экспериментальную почву, стали на уровень современных европейских взглядов. Экспериментом Забелин произвел в преподавании фармакологии такой же переворот, какой был произведен микроскопом в области патологической анатомии.
Поставив изучение фармакологии на точную научную физиологическую почву, Забелин привлек в свою аудиторию небывалое до того времени число слушателей, которые получив живое, научное знание о действии лекарств на организм, уже подготовленные шли в клиники. Забелин был выдающийся ученый, и его «Лекции по фармакологии» имели большое значение для подготовки специалистов[1].
Выдающимся ученым был и Руднев Михаил Матвеевич – доктор медицины, профессор и Ученый Секретарь Медико-хирургической академии, вице-президент Общества русских врачей в С.-Петербурге.
Родился в 1837 г. в Туле в семье протоиерея и заслуженного профессора Тульской Духовной Семинарии М.Д. Руднева; получив первоначальное образование в той же семинарии. В 1855 г. поступил в С.-Петербургскую Медико-Хирургическую Академию и в 186о г. окончил в ней курс со званием лекаря с отличием, за успехи в науках был награжден серебряной медалью и оставлен, в числе лучших десяти человек, на три года при Академии. Занимаясь с 1860 г. должность ассистента при кафедре патологической анатомии, Руднев весь отдался исследованиям в области этой науки.
Конференция Академии обратив внимание на большую работоспособность и внимательное отношение Руднева к своей работе, отправила его на два года за границу, для научного усовершенствования в патологической анатомии, которую он окончательно избрал своей специальностью.
В продолжении заграничной командировки Руднев работал в Вюрцбурге у профессоров Ферстера и Шерера и в Вене у профессора Брюкке, но большую часть своей командировки он провел в Берлине, куда в то время были обращены взоры всего образованного мира; там в полном блеске сияло новое светило науки – знаменитый Рудольф Вирхов, первый показавший настоящее значение патологической анатомии и создавший целлюлярную патологию. К нему в лабораторию стекались молодые ученые со всех концов света.
Там Руднев посвятил себя всецело изучению патологической анатомии и почти все время проработал в лаборатории Вирхова; последний с большим интересом следил за его исследованиями. В Берлине Руднев пользовался вниманием не одного только Вирхова; так, например, много статей, помещенных в немецких журналах того времени подписаны: Kuhne ви Руднев, Max Schultze и Руднев. Два года, которые Руднев провел за границей, были самыми плодотворными по количеству серьезных, строго научных его трудов.
Обогатившись таким солидным количеством научных знаний, старательно изучив методы преподавания в лучших европейских университетах, для чего он еще побывал в университетах Парижа и Лондона, Руднев вернулся в конце 1865 г. в Россию, где был назначен на должность прозектора при кафедре патологической анатомии. Начал он преподавательскую деятельность с открытия не существовавших до того времени курсов практических занятий патологической гистологии, на которые перенес сущность учения Вирхова. Этим он дал то направление занятиям патологией, которое было уже принято везде за границей, но у нас еще известно не было; работы производились по строгому и точному научному методу.
Как профессор он был одним из лучших в Медико-хирургической академии того времени. В его лаборатории, которая едва вмещала всех желающих пользоваться советами и руководством замечательного учителя, кипела широкая научная деятельность. Все очередные вопросы разрабатывались здесь под личным руководством Руднева.
В высшей степени мягкое обращение со студентами, постоянная отзывчивость ко всем, кто к нему обращался, доставили Рудневу искреннюю любовь и глубокое уважение всех его учеников. Большая часть врачей посещавших Академию, стремилась работать в его лаборатории; поэтому большинство защищающихся тога в Академии докторских и магистерских диссертаций выходило из его лаборатории.
В короткое время Руднев создал в России целую самостоятельную школу патологоанатомов, из которых многие впоследствии сами занимали профессорские кафедры при университетах и в Медико-хирургической академии.
Руднев не переставал и сам обогащать своими научными трудами медицинскую литературу не только русскую, но и иностранную, особенно немецкую. Рудневу удалось открыть в Петербурге трихинную болезнь, которую до него никто в России не встречал. После этого Руднев указал и на другу невиданную в России болезнь – эпидемию цереброспинального менингита. До тех пор эта болезнь считалась свойственной лишь странам Западной Европы.
В 1866 г. в Петербурге свирепствовала холера, и Руднев посветил все свое время изучению этой болезни. Плодом таких его трудов является «Патологическая анатомии холеры, господствующая в Петербурге в 1866 г.», работа представляющая ценный вклад в русскую научную литературу. Руднев постоянно знакомил иностранных ученых с успехами патологической анатомии в России, сообщая в немецкие журналы рефераты работ, которые производились под его руководством[2].
Практически большинство врачей в России в течение XVIII-XIX вв. сталкиваются с моровыми болезнями и успешно борются с ними, где опыт и знания помогали найти способы их локализации и подавления. Для научных медицинских работников такие задачи являлись первостепенными, но они успешно преодолевали все сложности. Успешно боролся с эпидемиями и Самойлович, Данило Самойлович, сын протоиерея, 1724 г. рождения.
Закончил Киевскую Духовную Семинарию, в 1761 г. поступил В Московскую Лекарскую школу и в 1765 г. был выпущен подлекарем. В 1767 г. был произведен в лекари и переведен в Петербургский адмиралтейский госпиталь, затем служил последовательно в Копорском и Оренбургском полках, а в 1771 г. был назначен в Московский военный госпиталь.
В Москве принимал деятельное участие в трудах комиссии, учрежденной для прекращения чумы и как член комиссии, заведовал врачебными пунктами в Симановском, Даниловском, Девичьем и других монастырях. За особые заслуги был назначен штаб-лекарем при Московском сенате. По окончанию в Москве эпидемии по Высочайшему повелению был вместе с другими врачами отправлен за границу для совершенствования в науках, посетил Францию, Германию, Италию, Англию и Голландию и написал несколько сочинений на французском языке о мировой язве и другие исследования по этому вопросу, выдержавшие по несколько изданий и переведенных и на немецкий язык.
Самойлович пробыл четыре года в Лейдене, здесь же написал докторскую диссертацию в 1780 г., которая и доставила ему степень доктора медицины. В России Самойлович занял должность главного врача всех карантинов на юге и инспектора черноморского медицинского управления. Ученые труды Самойловича доставили ему звание члена многих ученых русских и заграничных обществ и академий[3].
Появлялись и настоящие самородки – такие, как Смеловский Иван Андреевич, врач, профессор Медико-хирургической академии, происходил из духовного звания. Родился в 1762 г. в Киевской губернии и обучался в Харьковской духовной семинарии. Затем закончил курс Киевской духовной академии, где он усердно занимался латинским языком и кроме обязательных предметов, изучал с особым рвением польский, немецкий, французский, греческий и еврейский языки. Смеловский получил степень магистра и преподавал в той же академии латинский и греческий языки.
В 1788 г. поступил в Медико-Хирургическую С.-Петербургскую школу. С большим успехом пройдя курс, был произведен лекарем в 1790 г. и назначен в 6-й батальон Сибирского корпуса. Участвовал в лечении цинги, эпидемических болезней и прекращении скотского падежа.
В 1794 г. перевелся в Петербург в Адмиралтейский госпиталь. В 1796 г. прочел пробную лекцию «О болезненных причинах вообще и о чахотке». За эту лекцию Медицинская Коллегия определила его в С.-Петербургское Медико-Хирургическое училище адъюнктом патологии, терапии и клиники к первому русскому клиницисту Базилевичу. В 1796 г. училище преобразовано в академию, причем Смеловский продолжал читать свой предмет. В 1799 г. Базилевич оставил академию, на свое место он рекомендовал Смеловского, последний прочел пробную лекцию и ему было поручено самостоятельное преподавание патологии, терапии и клиники в звании адъюнкт-профессора. В 1801 г. получил звание экстраординарного профессора, а 1802 г. – ординарного.
Кафедра занимавшееся Смеловским, совмещала в себе не только внутренние болезни, но и нервные, душевные, кожные, глазные и другие болезни. Сюда же относилась и теория медицины. Для успешного преподавания этого необъятного курса был необходим всесторонне образованный и в высшей степени даровитый человек, и таким действительно оказался Смеловский. Не получив высшего медицинского образования, не посетив никогда заграничных врачебных школ, не имея степени доктора, он тем не менее справился с своей задачей, благодаря своей необыкновенной энергии…
[1] Русский биографический словарь. Жабокритский – Зяловский. Репринтное воспроизведение издания 1916 года. Москва: АСПЕКТ ПРЕСС, 1995. С. 134-135.
[2] Русский биографический словарь. Романов – Рясовский. Репринтное воспроизведение издания 1918 года. Москва: АСПЕКТ ПРЕСС, 1999. С. 418-422.
[3] Русский биографический словарь. Сабанеев – Смыслов. Репринтное воспроизведение издания 1904 года. Москва: АСПЕКТ ПРЕСС. Москва, 1999. С. 156.