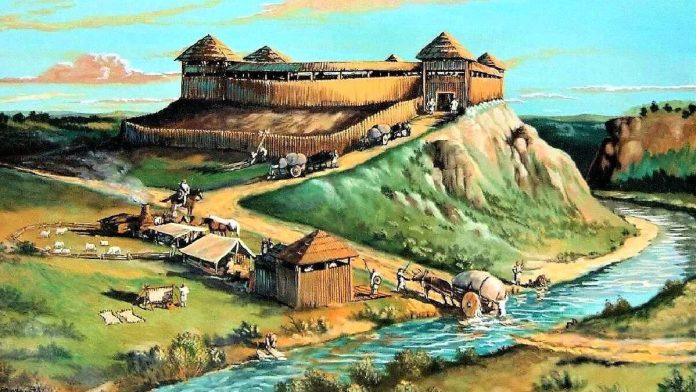Чудовищная по своим масштабам и последствиям геополитическая катастрофа, постигшая славянские народы в конце ХХ века и выразившаяся в распаде СССР, Чехословакии и Югославии, а также в последующей хаотизации и дроблении славянского государственно-политического и этнокультурного пространства, превратила значительную часть славянских государств в послушный инструмент реализации интересов глобальных политических игроков на международной арене. Все это не могло не оказать самого непосредственного влияния и на современную историческую науку и околоисторическую публицистику по той банальной причине, что историю всегда пишут победители.
Главные геополитические выгодоприобретатели итогов «холодной войны» в лице коллективного Запада стали все более напористо и агрессивно навязывать свой откровенно антиславянский нарратив, в котором, помимо прочего, всё явственнее проступало стремление «убрать» славян не только с политической, но и с культурно-исторической карты Европы, незатейливо объявив их неким вымыслом или фикцией. В частности, подобные экстравагантные идеи высказывает и энергично продвигает модный на Западе американский историк румынского происхождения Ф. Курта, который с апломбом и на полном серьёзе объявляет славян «искусственным конструктом восточноримских писателей и историков VI века» (Téra 2019: 59)[1]. Авторитетные и общепризнанные византийские историки в лице П. Кесарийского, Ф. Симокатты, К. Багрянородного и многих других, по мнению румынско-американского историка, были, таким образом, авторами неких не заслуживающих серьёзного внимания околонаучно-фантастических текстов, не имевших ничего общего с реалиями. Румынско-американского историка Ф. Курту не смутил и тот упрямый факт, что сведения византийских историков в основном подтверждаются и многочисленными археологическими материалами.
Критикуя эту весьма экстравагантную точку зрения, современный чешский историк М. Тера обоснованно замечает, что подобные взгляды находятся в самом вопиющем противоречии с традиционным академическим подходом и обусловлены отнюдь не научным мышлением, а «модным релятивизмом и постмодернистским подходом к идентичности» (Téra 2019: 59)[2]. Заметим дополнительно, что ещё одной существенной причиной появления подобных откровенно лженаучных теорий является банальная и глубоко укоренённая славянофобия, традиционно присущая многим западным учёным.
***
Ничто не ново под луной – высокомерно-поверхностный взгляд на славян был изначально присущ многим представителям прежде всего традиционной немецкой историографии, которые любыми путями пытались умалить историческое значение славян, «убрав» их из Европы и объявив дикими и поздними пришельцами из глубин азиатских степей. «Слишком много людей на Руси привыкли смотреть на мир Божий не так, как он есть, а так, как его показывают нам… французы, англичане и немцы, от которых мы думаем позаимствовать всякую премудрость, – писал об этом печальном явлении в середине XIX в. известный русский историк-славист А.Ф. Гильфердинг. – Иностранцы же стараются как можно меньше говорить о славянах для того, чтобы, по возможности, скрыть их от наших глаз и от глаз всего человечества. В том их расчёт, особенно расчёт немцев» (Гильфердинг 2009: 33)[3]. Совершенно естественно поэтому, что самые первые представители славянской исторической науки и зарождавшегося славяноведения в лице П.Й. Шафарика, а до него М.В. Ломоносова стремились прежде всего доказать автохтонность и широкое присутствие славян в Европе, полемизируя в этом вопросе с немецкой историографией.
Ещё одним интересным, самобытным и, к сожалению, ныне полузабытым славянским мыслителем, доказывавшим древность славян и их большую роль в древней истории, являлся польский археолог, филолог и нумизмат Тадеуш Воланский (1785-1865), жизнь и научная судьба которого представляются в высшей степени показательными и поучительными.
Тадеуш Воланский родился в 1785 году в г. Шавеле (ныне г. Шяуляй) в Литве в семье польских аристократов; его отец увлекался модной в то время алхимией, водил дружбу с масонами и занимал должность советника последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского. В время войны 1812 года Т. Воланский, как и многие поляки, воевал в составе армии Наполеона и за свои заслуги был награждён французским орденом Почётного легиона. После разгрома Наполеона внешнеполитические предпочтения Воланского существенно изменились. В 1817 г. он даже написал несколько хвалебных поэтических миниатюр, посвящённых дню рождения российского императора Александра I, который после дарования Царству Польскому в 1815 году весьма либеральной по тем временам Конституции пользовался большим успехом у польской аристократии и шляхты и был кумиром польских дам.
Очевидно, пребывание в России и основательное знакомство с Москвой и русским языком впоследствии оказало серьёзное влияние на круг научных интересов Т. Воланского. После окончания войны Воланский профессионально занялся археологией, нумизматикой и коллекционированием; при этом основное внимание он уделял изучению славянских древностей, в том числе изысканиям, связанным с древним руническим славянским письмом. Кроме того, Т. Воланского профессионально интересовали древние монеты, амулеты, медали, надписи на различных памятниках и прочие артефакты Южной Европы, Передней Азии и Северной Африки – то есть тех областей, которые были родиной древнейших человеческих цивилизаций.
В ходе активных археологических раскопок на южном побережье Балтийского моря Т. Воланский обнаружил совершенно неожиданные для него артефакты, в том числе фигурки древнеегипетского бога Осириса и ритуальные статуэтки Ушетби, которые древние египтяне клали в гроб покойнику. Данные статуэтки обычно изготавливались из дерева, камня или фаянса и, по верованиям древних египтян, должны были замещать умершего на работах в загробных полях бога Осириса.
Найденные Т. Воланским на берегах южной Балтики древнеегипетские статуэтки и прочие артефакты датировались VIII-V веками до нашей эры и красноречиво свидетельствовали о наличии оживлённых торговых связей между Древним Египтом и протославянскими племенами, населявшими южное побережье Балтики и соседние области во второй половине и в конце I тысячелетия до нашей эры. Данные находки дали мощный толчок для дальнейшего изучения Воланским этой темы и впоследствии привели его к выводу о присутствии ранних славян на территории Северной Африки и Южной Европы. В ходе дальнейших изысканий Т. Воланский утвердился в мысли о широком присутствии раннеславянских племён в ряде областей Северной Африки и Южной Европы, в том числе Италии.
Более того, исходя из предположения о существовании у древних славян собственной оригинальной письменности, польский археолог пришел к выводу о том, что с помощью славянских языков можно прочитать многие надписи на древних языках, в том числе на загадочном и в то время недоступном для учёных этрусском языке. Основываясь на результатах своих археологических изысканий, Воланский выдвинул предположение о том, что этруски в этноязыковом отношении были близки русским славянам. Сам Т. Воланский был уверен в том, что ему с помощью славянских языков удалось успешно расшифровать не только большинство надписей на этрусском языке, но и на некоторых других древних языках. Более того, Воланский пришел к заключению, что ряд надписей на древних артефактах Италии, Персии и Индии может быть расшифрован только носителями славянских языков, в то время как не владеющие славянскими языками немцы, французы и англичане бессильны перед этой задачей.
При всей кажущейся фантастичности данных мыслей Т. Воланского определённое рациональное зерно в них все-таки было. Показательно, например, что магистерская диссертация одного их крупнейших русских учёных-славистов А.Ф. Гильфердинга, защищённая в 1853 г., была посвящена «сродству языка славянского с санскритским» (Гильфердинг 2009: 9)[4], а младший современник польского археолога, известный русский историк-славист В.И. Ламанский в своей магистерской работе, сделанной на основе большой массы разнообразных исторических источников, убедительно доказал широкое присутствие славян в эпоху раннего Средневековья на обширной территории Малой Азии, Северной Африки и даже Испании (Ламанский 1859)[5].
Стремясь познакомить с результатами своих изысканий широкую научную общественность, Т. Воланский направил пространное письмо в Российскую Академию наук в Санкт-Петербург, но никакого ответа не получил. Подобная реакция была предсказуемой – петербургская Академия наук в это время в значительной степени находилась под контролем немцев, отношение которых к славянским сюжетам было в лучшем случае безразличным, но чаще – откровенно враждебным. По сути, с момента создания Российской Академии наук в 1725 г. на протяжении более века «иностранцы контролировали весь процесс написания русской истории. В их ведении были все документы, архивы, летописи. Они фактически вершили судьбу России, т.к. бесконтрольный доступ к документам позволял им манипулировать информацией о прошлом по своему усмотрению…» (Дьяков 2011: 6)[6].
Так и не получив долгожданного ответа из Санкт-Петербурга, Т. Воланский направил аналогичные письма в Королевское научное общество Богемии в Праге и в Датское королевское общество по изучению истории в Копенгаген, но и оттуда никаких ответов не последовало. После этого в 1846 г. Т. Воланский за свой счет издал в г. Гнезно книгу «Письма о славянских древностях» на немецком языке. В ней польский археолог пространно изложил результаты своих многолетних к тому времени научных изысканий, присовокупив к ним масштабное приложение с изображением 145 наиболее важных из числа всех собранных им артефактов. Однако самым примечательным в данной книге был красноречивый вывод Т. Воланского о том, что, по его мнению, история славянских народов отличается глубокой древностью; при этом широкое расселение славян в Европе замалчивается и всячески скрывается.
Реакция на данную книгу Т. Воланского со стороны польской католической церкви была немедленной и в высшей степени показательной по своей демонстративной свирепости. Как отмечает основательно изучившая данный вопрос современный российский публицист и историк М. Новик, сразу же после издания книги Воланского Гнезненский католический архиепископ «обратился к императору Николаю I с прошением ни больше ни меньше как «применить в Воланскому аутодафе на костре из его книг»[7].
На российского самодержца повеяло мрачными временами святой инквизиции, когда на многочисленных кострах тогдашней «просвещённой Европы» безжалостно сжигали всех неугодных католической церкви и римским папам – от разношёрстных ведьм и колдунов до Жанны д’Арк, Яна Гуса и Джордано Бруно… Немало удивлённый подобной свирепой реакцией польских католических иерархов на научный труд скромного польского археолога почтенного возраста, император Николай I решил лично ознакомиться с книгой Т. Воланского, для чего повелел приобрести несколько экземпляров его «Писем о славянских древностях»[8].
В качестве научного консультанта Николай I решил привлечь известного в России литератора, преподавателя и убеждённого славянофила Е. Классена. Этнический немец по происхождению, но при этом русский патриот и большой славянолюб, Е. Классен был к этому времени известен как автор ряда научных, научно-популярных и педагогических работ, связанных с его профессиональной деятельностью – с 1825 г. Классен был преподавателем российского гражданского права в Московской коммерческой академии. Будучи глубоко убеждённым в древности славянских народов и в этнокультурном родстве этрусков и ранних славян, Классен дал весьма позитивную оценку труда польского археолога. Ряд идей Классена, в частности, о глубокой древности славянской государственности, не уступающей в этом отношении античным народам, а также о полной несостоятельности доминировавшей в то время «норманнской теории» был полностью созвучен мыслям Т. Воланского.
После доклада Классена по поводу книги Т. Воланского император Николай I, впечатлённый его аргументами, повелел закупить «потребное» количество книг Т. Воланского, дабы положить их «под крепкое хранение»[9]. Что же касается самого Т. Воланского, то российский император отдал указание «всячески содействовать» дальнейшему проведению экспедиций польского археолога, направленных на выявление и собирание древнеславянских артефактов, а также обеспечить надлежащую охрану польского археолога.
В обыденном сознании давно сложился устойчивый стереотип об императоре Николае I как как о деспоте, мракобесе и солдафоне. Сей «деспот и мракобес», однако, принял в сложившейся пикантной ситуации поистине соломоново решение. Поддержав польского археолога, Николай I, тем не менее, дабы не раздражать польскую католическую иерархию, повелел сжечь остаток тиража книги Тадеуша Воланского. Польская католическая церковь с превеликим удовольствием и весьма оперативно выполнила повеление российского императора, предав огню «еретическую» книгу.
Однако помня о том, что часть тиража книги была куплена по указанию Николая I и отправлена в Петербург, католическая церковь, что представляется особенно пикантным, внесла труд Т. Воланского в «Индекс запрещённых книг» Ватикана[10]. На практике это означало, что любой правоверный католик, посмевший взять в руки книгу «Письма о славянских древностях» Т. Воланского и раскрыть её, совершал страшный грех. Всем католикам отныне вменялось в обязанность либо сразу уничтожить труд Воланского, либо передать книгу лицу, имевшему официальное разрешение католической церкви иметь дело с подобной литературой[11].
Таким образом, труд польского археолога Т. Воланского сразу же оказался в римско-католическом «спецхране». Учитывая всё вышеизложенное, становится очевидным, что в соревновании по мракобесию римско-католическая церковь одержала блестящую победу, оставив далеко позади российского императора Николая I, который в данной ситуации продемонстрировал как склонность к поддержке наук, так и чрезмерную деликатность в отношении иерархов польской католической церкви.
Судя по всему, само предположение о древности и величии славян было априори неприемлемым и невыносимым для иерархов католической церкви. Данное обстоятельство в очередной раз подтверждает мысль известного галицко-русского писателя и учёного И. Франко о том, что католическая церковь изначально являлась «злейшим врагом славян» (Франко 1953: 32)[12]. Показательно, что многочисленные польские Интернет-ресурсы, пространно повествующие о Т. Воланском и его научной работе с явной иронией и изображающие его в качестве экстравагантного чудака, упорно избегают упоминать о его конфликте с католической церковью, о запрете его книги и о планах польских католических иерархов учинить в отношении Воланского аутодафе.
***
Запрещённая католической церковью книга Т. Воланского, тем не менее, стала известна широкой публике, но только в Российской империи. По рекомендации императора Николая I Е. Классен включил информацию об основных открытиях Воланского в свой очередной труд, посвященный древней истории славян, в котором он особенно отметил научные заслуги польского археолога (Классен 2008)[13]. В предисловии к своему труду Е. Классен, в частности, писал: «Славяно-руссы, как народ, ранее римлян и греков образованный, оставили по себе во всех частях старого света множество памятников, свидетельствующих об их там пребывании и о древнейшей их письменности, искусстве и просвещении… Объяснением этих памятников, даже первою мыслию к способу их объяснения, мы обязаны Ф. Воланскому, сделавшему первый и значительный шаг к тому…» (Классен 2008: 11)[14]. Здесь же, критикуя основателей норманнской теории и их многочисленных последователей, Классен констатировал, что они «даже покушались отнять у Славяно-Руссов не только их славу, величие, могущество, богатство… и все добрые качества сердца, но даже и племенное их имя – имя Руссов, известное исстари как славянское…» (Классен 2008: 9)[15].
Разумеется, далеко не всё в трудах Т. Воланского и его последователя Е. Классена, которые в полной мере отдали дань романтизму, прошло проверку временем. Тем не менее, целый ряд выраженных ими мыслей оказался созвучен идеям других патриотически настроенных мыслителей, в том числе их предшественников П.Й. Шафарика и М.В. Ломоносова.
Так, например, М.В. Ломоносов в своей «Древней российской истории» особое внимание уделил вопросу происхождения и расселения древних славян, явно полемизируя с теми немецкими историками, которые стремились исключить славян с территории Европы, представив их не коренными жителями европейского континента, а поздними пришельцами из Азии, что имело и явную политическую подоплёку. Отметив, что «величие и могущество» славянского племени в последние полторы тысячи лет является неизменным, Ломоносов подчёркивал, что именно по этой причине «помыслить невозможно», чтобы в течение всего лишь нескольких столетий после Рождества Христова славяне смогли столь стремительно распространиться по европейскому континенту (Ломоносов 2011: 18)[16].
Внимательно анализируя и творчески интерпретируя труды античных и средневековых историков, Ломоносов пытался выявить предков современных славян среди ряда древних народов, упоминаемых в античных источниках. Так, отталкиваясь от сведений Птолемея и Плиния, Ломоносов фиксировал генетическую связь между славянами-венедами (венетами) и древним населением легендарной Трои (Ломоносов 2011: 19)[17]. Очень примечательно, что некоторые наблюдения М.В. Ломоносова, сделанные им в целом на основании письменных источников, позже были подтверждены Т. Воланским на основании собранного им богатого археологического материала.
Великий русский учёный подчёркивал, что в первые века нашей эры «славенское имя весьма прославилось; и могущество сего народа не токмо во Фракии, Македонии, в Истрии и в Далмации было страшно; но и к разрушению Римской Империи способствовало весьма много. Венды и анты, соединяясь со сродными себе славянами, умножали их силу. Единоплеменство сих народов не токмо нынешнее сходство показывает, но и за тысячу двести лет засвидетельствовал Иорнанд, оставив известие, что «от начала реки Вислы к Северу по безмерному пространству обитают многочисленные венедские народы, которых имена для разных поколений и мест суть отменны, однако Славяне и Анты называются».[18]
Большое внимание Ломоносов уделил вопросу о взаимоотношениях древних славян со скифскими и сарматскими народами южнорусских степей, высказав при этом ряд любопытных мыслей, которые позже получили подтверждение в трудах современных учёных. Отталкиваясь от сообщения римского историка Плиния о том, что в первые века нашей эры «около Вислы обитали Венды и Сарматы» и указывая на то, что «народ Славенопольский по справедливости называет себя Сарматами»[19], Ломоносов приходит к выводу об этноязыковом единстве славян, вендов и сарматов, полагая, что разные этнонимы обозначают единый по сути народ. По словам М.В. Ломоносова, «Славяне и Венды суть древние Сарматы»[20].
Примечательно в этой связи, что ряд авторитетных современных историков, в частности, крупнейший эксперт в области истории и культуры карпатских русинов канадский историк-славист П.Р. Магочи подчёркивает в своих последних работах важную роль сарматских племён в процессе этногенеза славянских народов. В частности, очень любопытны рассуждения профессора Магочи о латентном присутствии значительного славянского этнического элемента среди скифов, сарматов и других известных по сообщениям античных авторов ираноязычных народов. По мнению Магочи, кочевые иранские и тюркские народы, именуемые в античных источниках «скифами, сарматами и пр., являлись в действительности полиэтничными образованиями, названными так только по имени правящей военной элиты. Североиранские племена скифов, около полутысячи лет господствовавшие в степях Украины и Крыма, в значительной степени состояли из славянских земледельцев, – пишет Магочи, тем самым солидаризируясь с мнением известного российского историка и археолога Б.А. Рыбакова, который усматривал предков славян среди скифов-пахарей, упоминаемых Геродотом.[21] – Время от времени славянское «большинство» ассимилировало иранские, германские, позже тюркские племенные элиты, сохраняя, тем не менее, имя этой элиты».[22]
Что касается Южной Европы и Балкан, то здесь М.В. Ломоносов, широко используя свидетельства хорошо информированного Геродота, приходит к совершенно однозначному выводу об этнокультурном и языковом единстве славян и иллирийцев. «В Южной Европе древность и могущество Славян из Геродота явствует, который венедов с иллирийцами за один народ почитает, – отмечал М.В. Ломоносов. – Иллирийцев древность простирается до веков баснословных, сила их из военных дел с греками и римлянами известна…».[23]
***
Исторические труды Ломоносова, Воланского, Классена и других близких им мыслителей игнорируются официальной исторической наукой и практически неизвестны широкой общественности современных славянских стран, для которой древняя история славян – не более чем длинный, скучный и маловразумительный перечень археологических культур последних веков до нашей эры и первых веков нашей эры; какие-либо попытки поиска предков современных славян среди известных народов древности по умолчанию являются дурным тоном.
Между тем, несмотря на неизбежное методологическое несовершенство и обусловленный эпохой романтизм, ряд вопросов и предположений, сделанных Ломоносовым, Воланским и Классеном, как минимум имеет право на существование и, безусловно, заслуживает того, чтобы о них знали широкие общественные круги в современных славянских странах.
По словам известного галицко-русского историка Д.И. Зубрицкого, одного из ведущих представителей галицко-русского национального возрождения середины XIX века, «многие писали историю России, но как она несовершенна! Сколько событий необъяснённых, сколько упущенных, сколько искажённых! Большею частью один списывал у другого, никто не хотел рыться в источниках, потому что изыскание сопряжено с большой тратой времени и трудом. Переписчики старались только о том, чтобы блеснуть витиеватостью, смелостью лжи и даже дерзостью клеветы на своих праотцев!» (Классен 2008: 6)[24]. Данные мысли известного галицко-русского историка и мыслителя, высказанные им в далёкие 1840-е годы, ничуть не утратили своей своевременности и остроты и поныне.
Литература
- Дьяков И.В. Ода Ломоносову // Ломоносов М.В. 300. Объединённый литературный альманах. Москва, 2011.
- Гильфердинг А.Ф. Россия и Славянство. Москва: Институт русской цивилизации, 2009.
- Классен Е. Новые материалы для древнейшей истории славян вообще и славяно-руссов до Рюриковского времени в особенности с лёгким очерком истории руссов до Рождества Христова. Москва: Белые Альвы, 2008.
- Ламанский В.И. О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испании. Санкт-Петербург, 1859.
- Ломоносов М.В. Древняя российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого, или до 1054 года. Москва: Белые альвы, 2011.
- Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. Москва: Наука, 1993.
- Франко І. Католицький панславізм // Франко І. Публіцистика. Вибрані статті. Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1953.
- Magocsi P.R. With Their Backs to the Mountains. A History of Carpathian Rus’ and Carpatho-Rusyns. Budapest-New York: CEU Press, 2015.
- Téra M. Kyjevská Rus: dějiny, kultura, společnost. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2019.
- https://alexandr-palkin.livejournal.com/9395262.html
[1] Téra M. Kyjevská Rus: dějiny, kultura, společnost. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2019. С. 59.
[2] Там же. С. 60.
[3] Гильфердинг А.Ф. Россия и Славянство. Москва: Институт русской цивилизации, 2009. С. 33.
[4] Там же. С. 9.
[5] Ламанский В.И. О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испании. Санкт-Петербург, 1859.
[6] Дьяков И.В. Ода Ломоносову // Ломоносов М.В. 300. Объединённый литературный альманах. Москва, 2011. С. 6.
[7] https://alexandr-palkin.livejournal.com/9395262.html
[8] Там же.
[9] Там же.
[10] Там же.
[11] Там же.
[12] Франко І. Католицький панславізм // Франко І. Публіцистика. Вибрані статті. Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1953. С. 32.
[13] Классен Е. Новые материалы для древнейшей истории славян вообще и славяно-руссов до Рюриковского времени в особенности с лёгким очерком истории руссов до Рождества Христова. Москва: Белые Альвы, 2008.
[14] Там же. С. 11.
[15] Там же. С. 9.
[16] Ломоносов М.В. Древняя российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава I, или до 1054 г. Москва: Белые Альвы, 2011. С. 18.
[17] Там же. С. 19.
[18] Там же. С. 15.
[19] Там же. С. 15.
[20] Там же. С. 16.
[21] См. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. Москва: Наука, 1993.
[22] Magocsi P.R. With Their Backs to the Mountains. A History of Carpathian Rus’ and Carpatho-Rusyns. Budapest-New York: CEU Press, 2015. P. 28.
[23] Ломоносов М.В. Древняя российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого, или до 1054 года. Москва: Белые альвы, 2011. С. 22.
[24] Классен Е. Новые материалы для древнейшей истории славян вообще и славяно-руссов до Рюриковского времени в особенности с лёгким очерком истории руссов до Рождества Христова. Москва: Белые Альвы, 2008. С. 6.