Аннотация
Польское восстание 1863 г. выявило ряд проблем в устройстве полиции белорусских губерний: от ее лояльности до численности. Это заставило обратить внимание на переустройство полиции как Министерства внутренних дел, так и генерал-губернаторов и губернаторов края. В числе первых мер стало ограничение доступа на службу в полицию лиц католического вероисповедания, введение материальных стимулов для перехода на службу в Западный край чиновников из внутренних губерний.
_________________________________________________________
Изменения в структуре общей полиции после издания 25 декабря 1862 г. «Временных правил об устройстве полиции в городах и уездах губерний, по общему учреждению управляемых» оказались в тени отмены крепостного права, судебной, военной и образовательной реформ, создания системы местного самоуправления и прочих преобразований эпохи Александра II. Проблема реорганизации полиции не приобрела первостепенного значения во внутренней политике российского правительства, несмотря на то, что именно на местных полицейских структурах МВД держалось не только обеспечение правопорядка, но все административное управление империей. Напомним, что с 1862 г. вместо земских судов, действовавших на основании «Положения о земской полиции» от 3 июня 1837 г., и городнических правлений по всей империи учреждались уездные и городские полицейские управления.
В белорусско-литовских губерниях Северо-Западного края Российской империи из-за польского восстания 1863–1864 гг. вопрос о полиции обрел особое значение. Перед властями стояла как политическая задача обеспечения лояльности империи местных полицейских чинов и организации управления в этом «проблемном» регионе, так и необходимость реформирования полицейских учреждений в целом. В этой связи представляет интерес в какой степени повлияла на развитие общей полиции административная деятельность виленского генерал-губернатора М.Н. Муравьева (1863–1865 гг.).
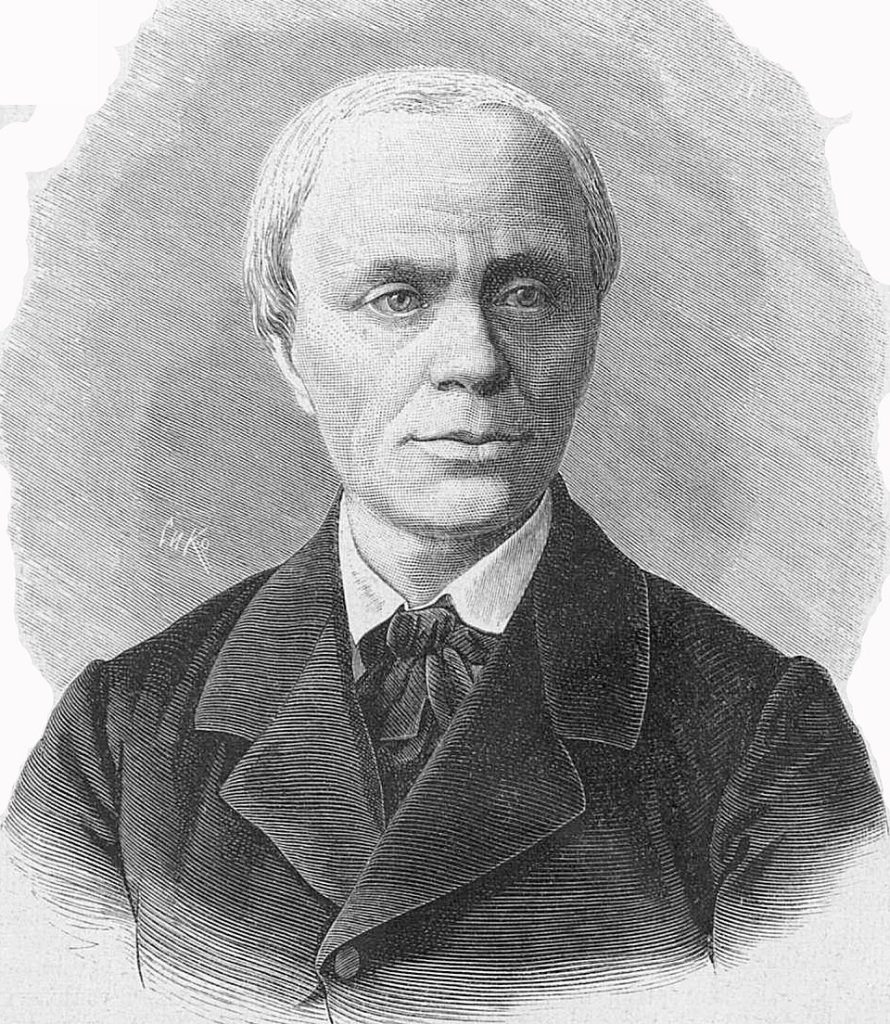
Сомнения в лояльности полицейских чиновников у местных властей появились еще до польского восстания. В частности, в донесении начальника IV округа Корпуса жандармов генерал-майора А.М. Гильдебранта от 1 декабря 1861 г. констатировалось, что «на земскую полицию положиться нельзя: она состоит большей частью из поляков и, сверх того, связана с помещиками материальными интересами» [1]. В самом начале восстания в своем рапорте от 16 января 1863 г. жандармский штаб-офицер по Виленской губернии подполковник А.М. Лосев предположил, что полицейские чиновники-поляки «скорее будут агентами мятежников, нежели правительства» [2]. Сообщая о формировании в Виленской губернии повстанческих отрядов, в донесении от 29 января 1863 г. А.М. Лосев утверждал, что «правительству рассчитывать на верность полиции положительно невозможно, ибо нельзя допустить, чтобы она, пред глазами которой составляются шайки мятежников, не знала и не могла бы предварительно доносить о том начальству». В своем донесении от 26 апреля 1863 г. жандармский штаб-офицер полковник Б.К. Рейхарт писал о том, что повстанцы хорошо осведомлены о нехватке войск в Минской губернии. Эта информированность обусловлена тем, что «во всех присутственных местах и канцеляриях они имеют своих агентов между служащими, которые большею частью поляки, а главное неудобство при теперешних обстоятельствах оказывается то, что полиция городская и земская, без малого изъятия, состоит из католиков, – впрочем и некоторые туземные православные (бывшие униаты) не лучше их, особенно у которых жены католички, – тому служит доказательством то, что нашлись между ними охотники присоединиться к повстанцам». Характеризуя ситуацию в Белостокском уезде Гродненской губернии 29 мая 1863 г., жандармский офицер майор С.И. Штейн обратил внимание на отсутствие сведений о повстанческом движении от чинов полиции. По его словам, «чиновники земской и городской полиции большей частью из здешних уроженцев, до ныне мало содействовали к открытию злоумышленников; одни увлечены общим в здешних местах сочувствием к восстанию, другие, находясь в отдаленных местах, где не находится наших войск, в случае нападения мятежников, могущих их защитить оружием, уклоняются от долга службы, из опасения быть умерщвленными мятежниками, при разъездах по делам службы». В отчете витебского губернатора В.Н. Веревкина за 1863 г. заявлялось, что «весь состав полиции того времени, сформированный почти преимущественно из одних католиков, значительно способствовал к постоянному закрытию виновных, а в случаях, когда действия крамольников и обнаруживались, то факты представляемы были не в надлежащем их значении» [3].

Сомнения в преданности престолу уездной полиции испытывал и виленский генерал-губернатор В.И. Назимов. В своем отношении к управляющему МВД от 23 февраля 1863 г. он писал, что полиция, подчиненная власти военных начальников, «поставлена в необходимость действовать согласно с распоряжениями начальства и преследовать злоумышленников, но за всем тем, сочувствуя стремлениям своих соотечественников-поляков, она не упускает удобного случая, чтобы способствовать им всеми зависящими от них мерами укрываться от преследования правосудия» [4].
Сама идея об организации в белорусских губерниях на период восстания военно-полицейского управления с подчинением чинов уездной полиции власти офицеров русской армии была предложена генерал-губернатору В.И. Назимову 15 февраля 1863 г. начальником Виленской губернии М.Н. Похвисневым из-за «бездействия и малонадежности, в политическом отношении, многих из чинов земской полиции» [5]. Генерал-губернатор не стал откладывать дело в долгий ящик: 23 марта 1863 г. эта мера была приведена в действие на территории генерал-губернаторства и Витебской губернии. Впоследствии М.Н. Муравьев лишь усовершенствовал систему временного военно-гражданского управления.
Еще до прибытия в край на должность виленского генерал-губернатора М.Н. Муравьева главой Министерства внутренних дел П.А. Валуевым 17 февраля 1863 г. была санкционирована кадровая чистка полицейского аппарата. С этого времени главным подтверждением политической лояльности чиновника полиции становилась «без сомнений национальность избираемого лица», которая «представляет одно из главнейших ручательств, и потому коренное русское происхождение должно быть предпочитаемо туземному, в особенности римско-католического исповедания, отличающегося своим фанатическим направлением, столь враждебным основным законам империи» [6]. При генерал-губернаторе М.Н. Муравьеве и его преемниках эта кадровая политика получила дальнейшее развитие, причем даже подтвердившие на деле свою преданность монархии чиновники-католики в 1863–1864 гг. зачастую переводились на службу во внутренние губернии империи. В этом проявилась принципиальная установка М.Н. Муравьева на удаление с государственной службы в крае чиновников-католиков.
Однако вышесказанное не означает, что личный состав полиции в белорусских губерниях после польского восстания 1863–1864 гг. комплектовался исключительно выходцами из великорусских губерний. Замещение ими полицейских должностей оказалось серьезной проблемой, поскольку служба в Западном крае могла стать привлекательной лишь при наличии существенных льгот. 5 марта 1864 г. был принят указ о повышении на 50 % оклада чиновникам ведомства Министерства внутренних дел, переводившимся в Северо-Западный край. Данная мера не распространялась на чинов общей полиции, поскольку совсем недавно были утверждены новые штаты. Впрочем, «благонадежным русским полицейским чиновникам» по усмотрению генерал-губернатора выплачивалась 50 % надбавка от всего жалования, а не только от оклада [7]. Вместе с тем 21 ноября 1869 г. были утверждены «Правила о назначении и производстве процентной прибавки к содержанию и пособий чиновникам русского происхождения, служащим в западных губерниях», согласно которым полицейским чиновникам, поступающим на службу в губернии Северо-Западного края, выплаты с 1870 года не назначались. Вопрос о назначении процентных надбавок и пособий для чиновников, если они «будут того достойны», отдавался на усмотрение местного начальства и обязательно согласовывался с Министерством внутренних дел [8]. Эта мера делала весьма проблематичной возможность привлекать на полицейскую службу в западные губернии кадры из центральных регионов империи. Отнюдь не случайно чиновники из внутренних губерний не составляли подавляющего большинства в полиции. Например, в 1880 г. в Гродненской губернии среди классных чиновников уездных полицейских управлений местные уроженцы составили 45 %, а городских полицейских управлений – 50 %. При этом выходцы из западных губерний были представлены на всех должностях, но составляли большинство в канцеляриях уездных полицейских управлений. Правда, за малым исключением все должности замещались лицами православного вероисповедания, что в глазах правительства являлось ручательством лояльности чиновников империи. Введенные при М.Н. Муравьеве процентные надбавки к жалованию не имели шансов на превращение в обыденную практику, поскольку выплачивались за счет контрибуционных сборов, которые изначально имели временный характер.

Восстание выявило массу проблем в организации полиции в белорусских губерниях. В основном их можно свести к тому, что при утвержденной штатной структуре было в принципе невозможно осуществить плотный полицейский надзор над населением не только в каких-либо политических целях, но и для обеспечения правопорядка. Интересно, что реорганизация местных полицейских структур МВД в белорусских губерниях произошла в самый разгар польского восстания 1863–1864 гг. и не учитывала политические обстоятельства. Принятые 17 февраля 1863 г. новые штаты 48 уездных полицейских управлений Минской, Виленской, Гродненской, Витебской и Могилевской губерний насчитывали 564 чиновника от исправника до регистратора. Под их ответственность попадало все сельское население и жители городов Северо-Западного края, в которых не было отдельного городского полицейского управления. Это не много ни мало пространство площадью приблизительно в 261995 кв. км с населением в 4161453 человек. Только одна Минская губерния составляла одну шестую часть Франции!
В этой связи представляет интерес вопрос о том, какие коррективы были внесены в организацию полиции после подавления польского восстания в последующей деятельности российского правительства в белорусских губерниях в правление императора Александра II. Однако это является предметом последующей статьи.
1. Революционный подъем в Литве и Белоруссии в 1861–1862 гг. М. 1964. С. 77.
2. Восстание в Литве и Белоруссии 1863–1864 гг.: материалы и документы. М. 1965. С. 104.
3. Гісторыя Беларусі ў дакументах і матэрыялах. Т. 2: Мн. 1940. С. 490–491, 516, 527, 483.
4. Архивные материалы Муравьевского музея, относящиеся к Польскому восстанию 1863–1864 гг. в пределах Северо-Западного края. Ч. 1: Переписка по политическим делам гражданского управления с 1 января 1862 по май 1863 г.: с двумя хромолитографическими снимками и шестью цинкографическими факсимиле в тексте. Вильна. 1913. С. 297.
5. ЛГИА. Ф. 378. Оп. 1863. Д. 172. Л. 24.
6. ЛГИА. Ф. 378. Оп. 1863. Д. 18. Л. 20.
7. ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. XIL. № 40655.
8. ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. XLIV. № 47700.
