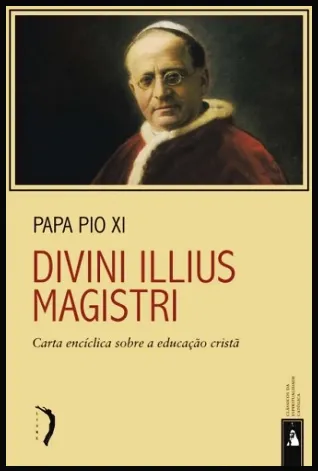Культурное развитие, воспитание и образование населения Римско-католическая церковь всегда рассматривала как инструменты, обладающие первостепенным значением. Они, с одной стороны, являлись самоцелью, а с другой – были частью широкой геополитической и политической стратегии Ватикана, которая, в отличие от светских подходов, характеризовалась изощренной риторикой, служившей для достижения поставленных целей.
В последний день 1929 г. папа Пий XI обнародовал энциклику «Divini illius magistri» («О христианском воспитании молодежи») – в разгар столкновения Римского престола с Б.Муссолини по поводу Католической акции. Это была первая энциклика, опубликованная не на латинском, а на итальянском языке, и ее отличал четко выраженный политический посыл. В энциклике папа утверждал, что воспитание молодежи принадлежит прежде всего церкви, и лишь затем семье и государству: «…церковь имеет неотъемлемое право и обязанность, которую у нее нельзя отнять, контролировать все воспитание своих детей, верующих, в любом учреждении общественном или частном; и не только в плане религиозного обучения…, но и в отношении любого другого знания и положений… Исполнение этого права нельзя рассматривать как некое недопустимое вмешательство, но как драгоценную материнскую заботу церкви защитить своих детей от тяжких опасностей любого научного и морального вреда… государство должно уважать естественные права Церкви и семьи на христианское воспитание… Поэтому несправедлива и недопустима любая воспитательная или школьная монополия, которая физически или морально принуждает семьи к посещению государственных школ против обязательств христианской совести…». Энциклика указывала, что даже в случае, когда «государство, исходя из необходимости внутренней и внешней защиты… основывает и управляет специальными школами для некоторых своих нужд, особенно военной.., но пусть заботиться о том, чтобы не нарушить права церкви и семьи в том, что принадлежит им…». Энциклика сетовала, что «в наше время… обычным стало нарушение естественных границ, когда дополнением к военной становится физическая подготовка молодых людей (а иногда и девушек, хотя это противоречит самой человеческой природе)», в то время как «возвеличивание атлетизма… уже в классическую языческую эпоху означало дегенерацию и раздор», что недопустимо «вторжение в личное время верующих, которое может быть посвящено религиозным обязанностям». Поэтому энциклика прямо запрещала молодежи «посещение акатолических, нейтральных или смешанных школ, т.е. тех, что без различий открыты для католиков и некатоликов… в которых молодежь, хотя и получает религиозное обучение, но остальное образование исходит от учителей некатоликов… Необходимо, чтобы все образование и все устройство школы: учителя, образовательную методология и книги, и это касается всех предметов, пронизывал христианский дух», и все это должно «находиться под управлением и материнским контролем церкви…». «И не надо говорить, что в народе, разделенном на множество вероисповеданий, для государства невозможно организовать обучение иначе, чем посредством нейтральных или смешанных школ… В иных краях со смешанным вероисповеданием происходит обратное (помощь оказывается католическим и конфессиональным школам)…»[1]. На европейском пространстве Югославия была именно таким «религиозно смешанным образованием», энциклика папы как будто говорила именно о югославских условиях и обстоятельствах. Не случайно миланская «Corriere della Sera» отмечала, что энциклика «Divini illius magistri» в первую очередь относится к Югославии[2].
Чем именно была вызван столь недвусмысленный послы папы, скорее напоминавший военный приказ? Дело в том, что месяцем ранее указанной энциклики в Королевстве Югославии был принят закон о школах и «Соколе» КЮ (в видоизменной форме он получил возможность действовать в общеобразовательных учреждениях), которым РКЦ была весьма недовольна: запретом католических организаций в школах (хотя вне школы ученикам разрешалось быть членами католических объединений, организаций и сообществ), а также тем, что что югославский «Сокол» «вошел в школу», а клерикальный «Орел» был из нее исключен. Однако отметим, что в том же 1930 г. «черные гвардейцы папы» и главная организация Католической акции – «орлы» – быстро трансформировались в «Великое крижарское (крестоносное – А.Ф.) братство», сохранив все прежние политические тенденции «орлов» и став воистину католической армией, которая спустя чуть более 10 лет «будет хвалиться, что помогала разрушить Югославию и создать Независимое Государство Хорватию»[3]. Папский нунций Эрменегилдо Пеллегренетти по поводу закона о школах югославскому правительству направил ноту протеста, однако в ее тексте трудно найти факты, указывающие на то, чем конкретно подрывались или ограничивались позиции Римско-католической церкви и ее иерархии в Югославии[4]. Однако РКЦ, помимо прочего, в законе усмотрела угрозу своему имуществу и учреждениям – именно поэтому крупнейшее хорватское экономическое объединение «Напредак» (Сараево), а также хорватская читальня в Томиславграде в лихорадочной спешке были переданы Сараевскому архиепископу Ивану Шаричу.
Указанная энциклика Пия XI непосредственно связывала Католическую акцию с усилиями по передаче процесса образования в руки церкви: «Поэтому католики какого бы то ни было народа в мире, беспокоясь о католической школе своих детей – пусть будет ясно заявлено и хорошо понято и признано всеми – не участвовуют в партийной и политической деятельности, но в религиозной, которую неотъемлемо диктует их совесть»[5]. Здесь РКЦ демонстрирует высший стратегический пилотаж. РКЦ избрала курс формирования когнитивной и моральной структуры личности таким образом, чтобы поведенческие образцы католиков в общественно-политической жизни определялись императивами церковной организации. Система религиозного образования предполагала инкорпорацию в сознание индивида определенных когнитивных схем, в ультимативной форме предписывающих интерпретацию окружающей действительности, включая государственную систему, в соответствии с идеологией Св. Престола. Это безусловно содействовало укреплению групповой идентичности, поскольку со школьной скамьи культивировало бы чувство принадлежности к определенной религиозной группе. При этом в энциклике прослеживается оперирование мощными эмоциональными рычагами (обязанность, совесть, справедливость, вина, страх, благоговение), что способствует повышению восприимчивости к церковной пропаганде и укреплению лояльности к церковным институтам. Участие и трактовка общественно-политических событий должно вытекать из религиозных ценностей. Требование включения системы школьного образования под юрисдикцию РПЦ представляло собой не просто попытку расширения сферы ее влияния, но стремление создать фундаментальный инструмент когнитивной и моральной индоктринации на ранних этапах развития личности. Контроль над образовательными учреждениями позволил бы, минуя государственную систему, осуществлять первичную социализацию детей в соответствии с религиозными нормами и ценностями, точнее – установками Св. Престола, минимизируя воздействие альтернативных точек зрения и формируя устойчивую приверженность к идеологии РПЦ задолго до формирования критического мышления человека. Более того, это позволило бы интегрировать религиозные постулаты в структуру знаний по различным (по сути, всем!) дисциплинам, создавая единую и непротиворечивую картину мира, в которой папский престол занимает центральное место. Так «под покровом» Св.Престола и личности самого папы был применен комплексный подход, включающий когнитивные, моральные, социальные и эмоциональные механизмы для формирования управляемой модели поведения католиков, что, в свою очередь, обеспечило бы сохранение, укрепление и расширение институциональной власти и идеологического влияния церкви.
Папская энциклика «Divini illius magistri» сыграла роль катализатора в эскалации социально-политической напряженности в Югославии, поскольку именно она открыла новый, но ставший в межвоенный период главным, внутриполитический фронт, связав политический хорватский вопрос с религиозным. И если в политическом вопросе у хорватов было поле для маневра, то в религиозном «отступать было некуда», папские энциклики указывали направления движения, свернуть с которого или не подчиниться невозможно.
В политическом плане энциклика папы Пия XI «Divini illius magistri» легитимизировала претензии хорватской элиты, консолидируя население вокруг требования институционального оформления (по сути, с особым статусом «государства в государстве») религиозной идентичности. Авторитетное, бескомпромиссное и касающееся каждой семьи связывание хорватского политического вопроса с религиозным (католическим) перевело хорватско-сербский конфликт на уровень фундаментальных сакральных ценностей и идентичности. В результате «одним росчерком пера» папа сделал религиозный вопрос в Югославии системообразующим элементом хорватской политической мобилизации, сводя к минимуму возможность компромиссов и усиливая чувство экзистенциальной угрозы у хорватов.

С одной стороны, хорватская политическая элита получила мощную аргументацию, позволяющую представить свои политические требования как защиту религиозной свободы и прав. Энциклика способствовала формированию нарратива, в котором католицизм рассматривался как неотъемлемая часть хорватской идентичности, а защита католической веры – как национальный долг. Это, в свою очередь, радикализировало политические требования хорватских националистов и усилило их неприятие югославской государственности. С другой стороны, поддерживая образовательную автономию Римско-католической церкви, энциклика ослабила позиции хорватов-сторонников югославского унитаризма, поддерживающих централизованное государство с единой идеологией. Ватикан фактически вступил в негласный альянс с хорватскими националистами, что предоставило им международную поддержку и усилило их позиции в политической борьбе. Это, в свою очередь, повышало ставки в конфликте и свело к нулю вероятность компромисса.
Реакция католического югославского клира последовала незамедлительно. В Югославии энциклика была опубликована в январе 1930 г., а уже 19 февраля 1930 г. в Загребе под председательством Загребского архиепископа Анте Бауэра состоялась епископская конференция при участии Белградского архиепископа Рафаэля Рожича (только что вернувшегося из Рима), Сараевского архиепископа Ивана Шарича, Барского архиепископа Николы Добречича, Сплитского епископа Квирина Бонефачича, Мостарского епископа Алоиза Мишича, Дубровницкого Йосипа Царевича, Люблянского архиепископа Антуна Еглича, Призренского епископа Франьо Гнидовца, епископа Баня-Луки Йозефа Гарича и др. На конференции обсуждались проблемы положения Католической церкви в Югославии, решения были приняты единогласно, однако для широкой общественности они остались в тайне. Известной стала лишь непримиримая позиция епископата в отношении нового закона о народном образовании[6]. Загребская конференция всем католикам Югославии направила послание, базирующиеся на энциклике папы Пия XI «Divini illius magistri», недвусмысленно заявив, что Римско-католическая церковь в Югославии «борьбу не прекратит, пока ей не будет возвращено право религиозного воспитания молодежи, дарованное ей Богом»[7]. Мостарский епископ Мишич призвал все католические организации перейти «под крыло католической церкви». Так, по определению выдающегося историка периода социалистической Югославии В.Новака, «создавалась атмосфера психоза, в которой отдельные епископы выступали не только защитниками, но и вождями этих разоренных хорватских обществ».
Энциклика совпала по времени с примирением Муссолини и Пия XI, а также с отбытием будущего поглавника НГХ Анте Павелича из Югославии за рубеж – сначала в Болгарию, а затем в Италию, где он «встретил полную поддержку своим разрушительным целям против Югославии»[8].
Газета «The New Republic», выходящая в Нью-Йорке, в феврале 1930 г. отмечала, что папская энциклика 1930 г. об образовании вызвала в Югославии новый виток конфликта: «Православные объявили об атаке Св. Престола на югославскую систему образования и обвинили Римско-католическую церковь в подготовке «культуркампфа» – битвы между Церковью и государством с целью превратить хорватский вопрос в религиозный и взорвать Югославию»[9]. Упоминание «kulturkampf» в данном контексте весьма показательно, оно свидетельствует о восприятии энциклики как элемента широкой стратегии Ватикана, направленной на подрыв секулярных основ государства и фактора, актуализирующего исторические опасения по поводу экспансии католической церкви и использования этнического сепаратизма для религиозной инструментализации. Последнее подтверждает проюгославски настроенная пресса, отмечавшая, что «Католическая церковь в хорватском движении играет важнейшую роль», но «ее влияние тайное и подлое». «Хорватский крестьянин все еще клерикал и великий католик. Среди католического духовенства в Хорватии югославян больше нет. Самая большая ошибка нашей государственной политики в том, что в нашем государстве разрешили работу иезуитов. За это нам придется дорого заплатить. Достаточно упомянуть, что самая отвратительная хорватская газета «Грудобран» печатается в иезуитской типографии. Иностранная пропаганда агрессивная и она находит благодатную почву. За всем этим стоит Австрия, а за ней – Ватикан»[10]. Действительно, геополитическая ситуация для Югославии выглядела все более угрожающей: ревизионистские устремления развивались в Венгрии и Австрии, в Италии фашистский режим Б.Муссолини набирал силу.
Софийская газета «Makedonia» в марте 1930 г. указывала, что в Югославии «…число фронтов увеличилось еще на один. Наряду с национальными и политическими фронтами возник еще один – на религиозной почве. Именно он имеет решающее значение для развития отношений между двумя противоборствующими сторонами… Влияние иерархов Римско-католической церкви на массы верующих в Югославии огромно. В настоящее время существует опасность выдвижения Словении и объединения вокруг нее всех католиков страны в единый фронт против Белграда…»[11]. Чикагская «Просвета» 25 февраля 1930 г. отмечала, что «Католический клир хочет политическую мощь, хочет все то, что у него было до 6 января 1929 г., и что у него было в один момент отнято. Хочет католический фронт с крижарами…»[12].
Различная пресса того времени связывала усилия папского престола по постановке системы образования под контроль церкви с Католической акцией. Последняя «развивается в двух направлениях: религиозном и политико-историческом; осуществляется в связи с Римом, по инструкциям и указаниям Ватикана». «Представители католической церкви выступают против того, чтобы религиозное обучение в школах осуществляли учителя и требуют, чтобы веронауку преподавали духовные лица… Католические священники сеют ненависть к государству и сербам… Конференция католических епископов, проведенная в Загребе в октябре 1931 г., приняла резолюции, разосланные в циркуляре католическому духовенству и народу, в котором ясно поручается следующее: католическая церковь выступает против государственных культурно-просветительских обществ, поскольку видит в них «натуралистические взгляды», идеи и метод работы… Запрещает молодежи быть членами таких обществ… Запрещает воспитывать молодежь вне рамок церковных принципов… Католические священники армию-защитницу народа рассматривают как зло»[13]. Католический журнал «Vrhbosna» из Сараево открыто писал, что католическому духовенству и верующим запрещается участвовать в работе „Сокола“ Королевства Югославия. Указывались факты и личного «радикального подхода» католических священников к «отступникам» – так, например, приходской священник во Вранице (около Сплита) Анте Бранкич «проклял матерей, выдающих дочерей замуж за безбожников – противников католической церкви»[14]. Загребская газета «Mlada Jugoslavija» 20 октября 1931 г. в статье Виктора Ивичича «Национализм и клерикализм» указывала: «В хорватской части нашего народа преобладает клерикализм и его спутник иезуитизм, находящиеся под мощной защитой папизма и католической церкви, которая и сегодня представляет собой не только сильную духовную, но и политическую организацию… Их борьба подлая – она скрывается за фразами и религией. Власть церкви над государством – вот их желание, а все остальное – мишура…»[15]. Приведенная цитата из статьи В.Ивичича ярко иллюстрирует восприятие клерикализма и, в особенности, иезуитов как угрозы единству и светскому характеру государства, Римско-католическая церковь и ее институты прямо обвиняются в политической ангажированности и стремлении к власти.
Епископат и клир в своем стремлении проведения Католической акции в Югославии и реализации папских директив относительно школьного образования были единодушен. Однако нельзя однозначно утверждать, что все хорватское население, особенно интеллигенция, были готовы послушно встать в шеренгу защитников интересов церкви. Следует отметить, что в самой Хорватии существовали многочисленные популярные издания, отстаивающие антиклерикальную точку зрения. Среди подобной прессы прежде всего следует указать загребский «Hrvatski đak», «Pokret», «Slobodna misao», «Vala», «Vihor», шибеницкий «Naprednjak», сплитскую «Zastavu», люблянский «Preporod» и др. В связи с этим мобилизация масс со стороны церкви с 1930 г. стала развиваться по пути интенсификации проведения массовых католических конгрессов, на которых вырабатывались и внедрялись идеологические постулаты, становящиеся фундаментом хорватского радикализма.
Итак, энциклика «Divini illius magistri» стала важным фактором, повлиявшим на негативную политическую динамику Югославии, способствуя обострению хорватско-сербских отношений, институционализации политического католицизма, идеологической радикализации хорватского национализма, ослаблению югославского унитаризма и формированию стратегического альянса между Ватиканом и хорватскими националистами.
[1] Цит по: Новак В. Magnum Crimen: пола вијека клерикализма у Хрватској. Београд: Catena Mundi, 2015 (Pirot: Pi-press). С. 519-521.
[2] Новак В. Magnum Crimen: пола вијека клерикализма у Хрватској. Београд: Catena Mundi, 2015 (Pirot: Pi-press). С. 521.
[3] Новак В. Magnum Crimen: пола вијека клерикализма у Хрватској. Београд: Catena Mundi, 2015 (Pirot: Pi-press). С. 525.
[4] Новак В. Magnum Crimen: пола вијека клерикализма у Хрватској. Београд: Catena Mundi, 2015 (Pirot: Pi-press). С. 522.
[5] Цит по: Новак В. Magnum Crimen: пола вијека клерикализма у Хрватској. Београд: Catena Mundi, 2015 (Pirot: Pi-press). С. 521.
[6] Архив Југославије. Фонд 38 «Centralno presbiro predsedništva ministarskog saveta 1929-1941». Фасцикла 611.
[7] Архив Југославије. Фонд 38 «Centralno presbiro predsedništva ministarskog saveta 1929-1941». Фасцикла 611.
[8] Новак В. Magnum Crimen: пола вијека клерикализма у Хрватској. Београд: Catena Mundi, 2015 (Pirot: Pi-press). С. 523.
[9] Архив Југославије. Фонд 38 «Centralno presbiro predsedništva ministarskog saveta 1929-1941». Фасцикла 611.
[10] Архив Југославије. Фонд 38 «Centralno presbiro predsedništva ministarskog saveta 1929-1941». Фасцикла 614.
[11] Архив Југославије. Фонд 38 «Centralno presbiro predsedništva ministarskog saveta 1929-1941». Фасцикла 611.
[12] Архив Југославије. Фонд 38 «Centralno presbiro predsedništva ministarskog saveta 1929-1941». Фасцикла 614.
[13] Архив Југославије. Фонд 38 «Centralno presbiro predsedništva ministarskog saveta 1929-1941». Фасцикла 614.
[14] Архив Југославије. Фонд 38 «Centralno presbiro predsedništva ministarskog saveta 1929-1941». Фасцикла 614.
[15] Архив Југославије. Фонд 38 «Centralno presbiro predsedništva ministarskog saveta 1929-1941». Фасцикла 615.