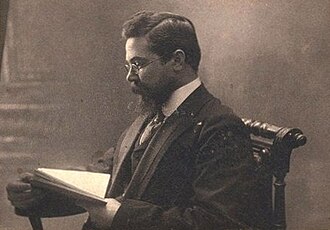Аннексия Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией в 1908 г., ставшая очередным и, как оказалось вскоре, роковым шагом в экспансионистской политике Дунайской монархии на Балканах, вызвала бурю эмоций и негодования среди российской общественности и политиков, которые независимо от своих политических предпочтений трактовали данный шаг Вены как очередное яркое проявление германской агрессии против славян.
По словам одного из российских публицистов, после поражения в русско-японской войне и в результате разрушительных последствий революции 1905-1907 годов Россия оказалась серьезно ослабленной и «такой слабостью её не мог не воспользоваться исконный враг славянства – германизм, который «аннектировал» или, правильнее, экспроприировал Боснию и Герцеговину… Славянство вскричало на весь мир от нестерпимой боли, и даже Россия, ослабленная и опозоренная на полях Маньчжурии, бурлит в своих недрах, накопляет в себе энергию… Забыть и простить немцам Боснию и Герцеговину мы, русские, никогда не сможем» (Скрынченко 1908: 2)[1]. Одновременно данное событие усилило внимание и к внутриполитическим процессам в России в этот период времени, в частности, к сложной этноконфессиональной ситуации в белорусско-литовских губерниях Северо-Западного края.
***
Исторический и этноконфессиональный аспект аннексии Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией и вызванный этим событием колоссальный резонанс в общественно-политической жизни России стали веским поводом для некоторых деятелей поднять вопрос о положении коренного белорусского населения Северо-Западных губерний Российской империи, поскольку они усматривали некоторые зловещие параллели в судьбе славянской Боснии и славянской Белой Руси.
В целом православные публицисты и общественные деятели традиционно рассматривали исторические земли Белой Руси как исконную составную часть Древней Руси и одновременно как арену постоянного цивилизационного противостояния Русского Мира и Полонии, идейными фундаментами которых были соответственно православие и католичество.
Одним из таких деятелей был известный православный публицист Д.В. Скрынченко, активно и плодотворно сотрудничавший с «Минскими Епархиальными Ведомостями» и рядом других православных печатных изданий белорусско-литовских губерний. В 1908 г. в Минске была опубликована брошюра Д.В. Скрынченко под выразительным названием «Трагедия белорусского народа», в которой содержалось открытое письмо автора членам Государственной Думы и «русскому обществу» под ещё более выразительным и несколько интригующим заголовком «У нас своя Босния».
Православный публицист имел здесь в виду то обстоятельство, что, подобно Боснии, захваченной Австрией, Белая Русь также подвергалась всё более явной угрозе захвата поляками, которые не скрывали своих планов отторжения Белой Руси от России и её последующего присоединения к будущему польскому государству, в непременном возрождении которого представители польской элиты не сомневались. Кроме того, проводя параллель между Белой Русью и Боснией Д.В. Скрынченко явно намекал на то, что, подобно тому как в Боснии в результате турецкого ига и насилия среди значительной части изначально православных сербов распространился ислам, так и среди части изначально православных белорусов в результате давления со стороны римско-католической церкви и униатского насилия в эпоху польского господства постепенно утвердилось католичество.
И Босния, и Белая Русь, таким образом, стали жертвами этноконфессиональной экспансии и насилия со стороны враждебных православию государств, которые продолжались в течение столетий и оказали колоссальное влияние на последующее развитие Боснии и Белой Руси.
Своё открытое письмо Государственной Думе и «всему русскому обществу» Д.В. Скрынченко начинает невесёлой констатацией того, что его ум занимает «другая Босния» – по его афористичному выражению, «Босния» нашего Западного края. «О ней молчит наша печать…, о ней не читают своих лекций ни Милюковы, ни гр. Бобринские, ни Красовские, – с сарказмом замечал Д.В. Скрынченко. – О ней молчит «польское коло», ловко присосавшееся теперь к октябристам и с лукавой улыбочкой отворачивающее их глаза от Западно-русского края к южным славянам» (Скрынченко 1908: 2-3)[2].
Главный предмет возмущения и негодования православных публицистов состоял в том, что наметившееся после революции 1905-1907 гг. политическое сближение польской элиты западно-русских губерний с официальным Петербургом и ведущими российскими либеральными политиками проходило в условиях резко усилившейся полонизации и окатоличивания белорусов. «В Государственной Думе октябристы и умеренно-правые, то есть большинство Думы, стали уже лобызаться с поляками. Именно это обстоятельство и заставляет взяться за перо и закричать громко: что вы делаете, господа? Ведь вы же русские… Так зачем же вы предаете нас, наш Западно-русский народ в руки поляков? – задавал риторический вопрос В.Д. Скрынченко. – Каких бы партий вы ни были, вы не можете отдавать здешний край на съедение полякам. Единственное, чем можем мы в утешение себе объяснить ваше лобызание с поляками, – это ваше неведение относительно того, что делается в нашем крае. А знать вам это пора хотя бы для того, чтобы не делать неосторожных шагов: исторические ошибки трудно исправлять!» (Скрынченко 1908: 3)[3].
Далее В.Д. Скрынченко перешел к описанию наиболее жгучих проблем, стоявших в то время перед белорусским населением Северо-Западного края Российской империи. Проводя параллель между Белой Русью и Галицкой Русью, православный публицист привёл известное высказывание о том, что в Галиции русскими остались только «поп да хлоп». Развивая данную мысль, Д.В. Скрынченко писал: «Не то же ли самое у нас в Западно-русском крае – в Белоруссии! Как сходно всё то, что проделывают поляки в Галиции и в Белоруссии! В последней ведь тоже русскими остались лишь «поп да хлоп». Да и самая поговорка эта здесь в ходу… Здесь не осталось «тутейшего» ни дворянства, ни мелкой шляхты, ни купечества, которые не были бы окатоличены и ополячены. Здесь есть лишь немного пришлых русских помещиков. Коренное белорусское дворянство уже давно пало под ударами польщизны. В конце XVI и в первой половине XVII веков здешние дворянство проявило героические усилия, чтобы отстоять православную веру и свою русскую народность… Поражаешься той силе православно-русского духа, которую проявили здешние дворянские роды в борьбе с беспощадным полонизмом. Как живые становятся пред глазами здешние русские богатыри – Огинские, Масальские, Стеткевичи, Ельские, Ваньковичи, Тышкевичи и др., жертвовавшие свои огромные имения на православные церкви и монастыри. Потомки указанных старых родов давно ополячились и являются теперь рьяными приверженцами полонизма. Местной русской интеллигенции здесь нет. Описывать героическое прошлое и пробуждать тем православно-русское самосознание здесь некому; русские здесь действительно только «поп да хлоп» (Скрынченко 1908: 4)[4].
После столь пространного исторического экскурса Д.В. Скрынченко перешёл к характеристике современных ему печальных реалий Северо-Западного края, отметив прежде всего забитость, отсталость и беспросветную темноту «хлопа», т.е. простого белорусского крестьянина, а также тот факт, что только «поп», т.е. представитель местного православного духовенства, может нести на своих плечах «тяжкую ношу национального пробуждения». Однако, как с грустью замечал православный публицист, «и этот единственный носитель русской миссии, заваленный массой труда, материально плохо обеспеченный и к тому же почти совершенно не поддерживаемый местной русской властью «кадетского» или «октябристского» покроя, нередко опускает руки, теряет веру в плодотворность своего непосильного труда и уже почти готов всё предоставить своему естественному течению… Ужасно это положение народа, – восклицал Д.В. Скрынченко, – когда у него нет своей интеллигенции, своего дворянства, своего, так сказать, мозга. Всё это у него вырвано безжалостной Польшей и жестокой судьбой!» (Скрынченко 1908: 5)[5].
Данное наблюдение православного публициста указывало на ещё одну примечательную параллель между Боснией и Белой Русью. Если в Боснии главными гонителями Сербства и Православия стала местная сербская исламизированная феодальная верхушка, то в Белой Руси эту позорную роль сыграли местные белорусские полонизированные и окатоличенные аристократы. Коренной православный народ Боснии и Белоруссии, таким образом, стал жертвой ренегатов из числа собственной аристократии, изменившей своему народу.
Резкое усиление полонизации белорусского населения белорусско-литовских губерний и заметная активизация католического прозелитизма в Северо-Западном крае Д.В. Скрынченко справедливо и обоснованно связывал с принятием 17 апреля 1905 г. Указа «Об укреплении начал веротерпимости», которым умело воспользовались римско-католические иерархи Северо-Западного края для перехода в прозелитическое контрнаступление. Дополнительным мощным стимулом для активизации польского движения стал царский манифест 17 октября 1905 г., который «вызвал взрыв польско-католического шовинизма. В крае начались преследования на религиозной почве. Следствием этого был массовый переход православных в католичество (от 150 до 200 тысяч по разным источникам)» (Савченко 1995: 48)[6].
«Бедный поп и бедный хлоп! – эмоционально восклицал в связи с этим православный публицист. – На этих представителей русской национальности с 17 апреля 1905 г. идёт страшный натиск католицизма, и полонизма. Вы и понятия не имеете об этом натиске. Ведь Вам так хорошо и сладко грезить «неославизмом» и восхищаться «культуральностью» «польского кола». О, оно очень культурно там, в Таврическом дворце, да и здесь – в гостиных и приёмных наших бюрократов! Поглядели бы Вы, как поляки «культуральны» в действительной жизни – в своих отношениях к белорусскому православному народу! И у Вас сжалось бы сердце при виде всего, что терпит здешнее «быдло»!» (Скрынченко 1908: 5)[7].
Особенно пристальное внимание Д.В. Скрынченко уделил алгоритму и конкретным механизмам реализации полонизаторской политики в Западном крае. По его мнению, особенность положения белорусских земель состояла в том, что после тотальной полонизации местного дворянства польское правительство обращало мало внимания на крестьянство, полагая, что с местным «быдлом» нет смысла возиться и вообще «уделять ему внимание. И, к нашему счастью, – замечал Д.В. Скрынченко, – такая политика бывшей Польши привела к тому, что здесь сохранился русский народ, несмотря на 400-летнее польское иго. В конце XIX века и особенно теперь поляки поняли, что прежняя Польша «от можа до можа» немыслима без окатоличивания и ополячения и крестьянства. И вот ополяченные здешние паны во главе с фанатиками-ксендзами спешат доделать здесь то, что не сделала прежняя аристократическая Польша, т.е. окатоличить и ополячить крестьянство. На последнее в этом смысле делается теперь планомерный и ловкий натиск: движется, так сказать, девятый вал, который здесь всё решит и, может быть, скорее, чем могут предположить даже проницательные люди» (Скрынченко 1908: 6)[8]. Именно в этом «девятом вале» новой полонизационной волны усматривал Д.В. Скрынченко главную опасность для белорусского населения в начале ХХ века.
Следует отметить, что конкретные технологии полонизации, ориентированные на широкие массы простого белорусского населения, проделали существенную эволюцию и действительно приобрели в начале ХХ в. особенно изощрённый характер на белорусских землях; при этом полонизаторы из числа представителей местной шляхты активно и весьма творчески стали использовать для этого местную этнокультурную специфику.
Так, в 1907 г. в Вильно была создана Краевая партия Литвы и Беларуси, которая, признавая местную этнографическую специфику в виде «белорусскости» или «литвинскости», тем не менее, трактовала данные земли и их коренное население как составную часть исторической Польши и польской культуры (Гамулка 2008: 20)[9]. Показательно, что именно в концепции «краёвости» польская шляхта белорусско-литовских губерний «усматривала силу, которая бы могла привлечь к ней широкие массы простого народа» (Гамулка 2008: 20)[10].
Нельзя не обратить внимание и на то примечательное обстоятельство, что именно польско-католические элементы составляли существенную часть руководства зарождавшегося в то время белорусского национального движения. Именно эти польско-католические элементы, мимикрировавшие под белорусов, небезуспешно старались придать белорусскому движению откровенно русофобский характер, навязывая антирусские исторические нарративы и стремясь всячески обособить белорусов от общерусского культурного пространства, на что прямо указывал в своих трудах один из ведущих отечественных учёных-славистов начала ХХ в. академик Е.Ф. Карский (Карский 2007)[11].
В сфере практической политики польские деятели не очень беспокоились по поводу неудобных для них этнокультурных реалий белорусско-литовских земель, трактуя именно польский этнический элемент на белорусско-литовских и украинских землях как «доминирующую цивилизационную силу, способную к политической организации» (Шевченко 2019: 54)[12]. Независимо от текущих политических разногласий, все основные польские политические силы вполне разделяли взгляд лидера национальных демократов Р. Дмовского о том, что «будущее польское государство может выйти за пределы польских этнографических границ в мере, учитывающей ценности исторической Польши и цивилизационный потенциал великого народа» (Dmowski 1926: 17)[13]. Лидер националистического крыла польских социалистов Ю. Пилсудский уточнял сей посыл Дмовского, относя все народы к востоку от поляков к числу «неисторических» и считая польскую политическую опеку над ними совершенно нормальным и естественным явлением (Шевченко 2012: 54)[14].
Как элегантно выразилась в этой связи современный польский историк К. Гомулка, для части белорусов «место в границах польского государства было зарезервировано…» (Гамулка 2008: 22)[15]. Польская политическая элита, таким образом, задолго до возрождения независимой Польши в 1918 г. стала тщательно готовить идеологическую почву для своей последующей экспансии на восток.
В этих условиях особое негодование православной общественности вызывала индифферентно-пассивная позиция официального Петербурга и ведущих политических кругов. «А мы русские что делаем? – саркастически замечал по этому поводу Д.В. Скрынченко. – Очень много: Вы в Таврическом дворце целуетесь с поляками, а здесь русские бюрократы и «прогрессисты» ходят на польские базары, обирающие русские карманы на очаги полонизма… Но как бы мы ни обольщали себя благодушием и стремлением к какому-то «примирению» с поляками, всё же рано или поздно надо будет решать один неизбежный вопрос: что же здесь будет: Польша или Россия? Должна ли Россия предоставить здесь всё «естественному течению вещей», т.е. окатоличиванию и ополячиванию края, или же должна все силы напрячь к тому, чтобы уничтожить здесь польскую скорлупу как временную накипь на искони русском народе?» (Скрынченко 1908: 6)[16].
Лучшим способом противодействия полонизации и окатоличиванию широких масс белорусов Скрынченко считал «возвращение белорусского народы к его православно-русскому самосознанию, помня, что отсюда также «пошла русская земля». При этом православный мыслитель особенно подчёркивал, что возвращение белорусского народа к его «исстари русскому самосознанию не есть политика обрусения. Не применяйте этого жупела к нашему краю: этот термин оскорбителен для местного русского населения – белорусов. Здесь по древности более коренная Русь, чем, например, в Пензе; она здесь лишь покрыта польским лаком, – эмоционально подчёркивал Д.В. Скрынченко. – И весь вопрос «обрусения» здесь сводится только к тому, чтобы сбросить этот польский лак» (Скрынченко 1908: 7)[17].
Вновь возвращаясь к теме аннексии Боснии и Герцеговины Австрией, Скрынченко писал: «Вам, гг. умеренно-правые, октябристы и кадеты Государственной Думы, жаль Боснии и Герцеговины… А неужели же Вы не видите, что у нас есть своя «Босния» – наш западно-русский край, всё более и более ополячиваемый и тем самым отрываемый от России?»[18].
Продолжение следует…
[1] Скрынченко Д.В. Трагедия белорусского народа. Минск: Типография С.А. Некрасова, 1908. С. 2.
[2] Там же. С. 2-3.
[3] Там же. С. 3.
[4] Там же. С. 4.
[5] Там же. С. 5.
[6] Савченко В.Н. Восточнославянско-польское пограничье 1918-1921 гг. Этносоциальная ситуация и государственно-политическое размежевание. Москва: Институт Славяноведения и Балканистики, 1995. С. 48.
[7] Скрынченко Д.В. Трагедия белорусского народа. Минск: Типография С.А. Некрасова, 1908. С. 5.
[8] Там же. С. 6.
[9] Гамулка К. Паміж Польшчай і Расіяй. Беларусь у канцэпцыях польскіх палітычных фрміраванняу. Вільня: Палітычная сфера, 2008. С. 20.
[10] Там же.
[11] См.: Карский Е.Ф. Белорусы. Том 3. Минск, 2007.
[12] Шевченко К.В. «Картина варварства и глупости»: белорусское и украинское меньшинство Второй Речи Посполитой в конце 1930-х годов // Антигитлеровская коалиция – 1939. Формула провала. Москва: Кучково поле, 2019. С. 54.
[13] Dmowski R. Polityka polska i odbudowanie państwa. Warszawa, 1926. S. 17.
[14] Шевченко К.В. Указ соч. С. 54.
[15] Гамулка К. Паміж Польшчай і Расіяй. Беларусь у канцэпцыях польскіх палітычных фрміраванняу. Вільня: Палітычная сфера, 2008. С. 22.
[16] Скрынченко Д.В. Трагедия белорусского народа. Минск: Типография С.А. Некрасова, 1908. С. 6.
[17] Там же. С. 7.
[18] Там же.