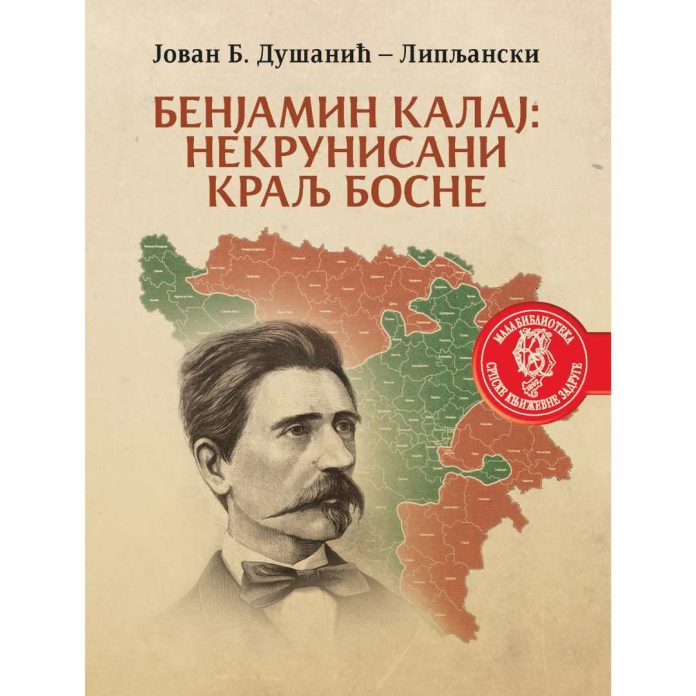Внешнеполитические контексты оккупации Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией
Для того, чтобы яснее представить себе контекст происходящего в конце XIX века на Балканах, необходимо хотя бы то в общих чертах остановиться на нескольких очень важных вещах, оказавших непосредственное влияние на оккупацию Боснии и Герцеговины.
Прежде всего, мы должны трезво оценивать как изменившиеся желания Великих Сил, так и изменившиеся возможности ключевых игроков мировой политики.
Во-первых, необходимо понимать: в каком состоянии находились Россия после Крымской войны, и как повлияло на баланс сил и, соответственно, открывшиеся «окна возможностей» изменение ситуации в Европе после Франко-прусской войны.
Следовательно, нужно ясно отдавать себе отчёт в том: что же реально представляли собою отношения между Австро-Венгрией, претендовавшей на западные Балканы – как сферу своего влияния, и Россией, пытавшейся удержать в своей сфере православное население Балкан.
Иллюстрациями этих отношений будут Рейхштадтское соглашение и Будапештская конвенция, заключённые накануне Русско-Турецкой войны 1877-78 гг.
Во-вторых, необходимо понимать и тот факт, что правящая в Белграде в описываемый момент династия Обреновичей могла опираться только на Вену. Поэтому Сербия Обреновичей не стала бы активно способствовать антиавстрийскому сопротивлению Боснии и Герцеговины. Впрочем, в заключительной части монографии проф. Йована Душанича сказано о «сербских качелях» – от Карагеоргиевичей к Обреновичам и обратно.
Сейчас мы не станем подробно останавливаться на внутриполитических контекстах, но напомним о российско-австрийских дипломатических отношениях в рассматриваемый период.
Говоря об оккупации Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины, нередко поражаешься тому, что люди, описывающие это знаковое событие, делают вид, будто им неизвестен тот факт, что пункты секретного Будапештского соглашения давным-давно не представляют для кого бы то ни было какого-то секрета.
Вопрос этот нельзя обходить стороной ни в коем случае.
Иначе наши противники получат безраздельную возможность интерпретировать указанные ключевые события в российской дипломатической истории конца XIX века.
Прежде чем перейдём к секретным соглашениям, вначале вкратце опишем состояние Европейской политики после поражения Франции в войне с Пруссией.
Европейская политика в 1870 гг.
Поражение Австрии в войне 1866 г. против коалиции, возглавляемой Пруссией и Италией, привело не только к ослаблению империи на внешнеполитической арене, но и к радикальным переменам внутри страны.
Усилении угрозы со стороны России (проявившееся в росте панславянских симпатий внутри национальных движений славянских народов империи, прежде всего, чехов), всерьёз обеспокоили венгерскую элиту. После поражения национальной революции 1848-49 гг. активисты венгерского национального движения не прекращали сопротивляться, и это сопротивление принимало самые различные формы.
В то время как бывшие в эмиграции радикалы, (нпр., Лайош Кошут), продолжали призывать к восстанию, умеренные лидеры (нпр., Ференц Деак) проводили политику «пассивного сопротивления». Это проявлялось в уклонении от уплаты налогов, в отказе от любого сотрудничества с правительственным аппаратом, в отказе от использования немецкого языка и т.п. Целью сторонников «пассивного сопротивления» было восстановление внутреннего суверенитета Венгрии внутри Австрийской империи, то есть возвращение к ситуации 1848 года, когда венгерская национальная революция уже добилась широкой автономии и самоуправления, но ещё не порвала с династией Габсбургов.
Теперь же, в ситуации усиления «угрозы панславянства» с одной стороны, и поражения Австрии в вопросе лидерства в Германском мире – с другой, венгры с немцами Австрии сумели прийти к компромиссу.
И 15 марта 1867 г. было заключено соглашению, в соответствии с которым Австрийская империя преобразовывалась в дуалистическую Австро-Венгрию. В свою очередь мудрый Бисмарк не стал «ставить ногу на грудь» Габсбургам, желая настоящего примирения между немцами.
Но окончательно европейское равновесие было нарушено после разгрома Франции и объединения Германии.
Для России было важно то, что после разгрома Франции Лондон теперь уже не мог рассчитывать на Париж – как на союзника в протурецком антироссийском блоке.
Следовательно, внешнеполитическое положение России стало более благоприятным, нежели это было после Крымской войны.
Австро-Венгрия в последней трети XIX века
Чтобы получить дополнительного союзника в «дружбе против» России, министр иностранных дел Австро-Венгрии граф Дьюла Андраши резко изменил «польскую политику» Габсбургов. Вместо сурового обхождениями с этим гонористым и мятежным народом, Андраши покровительствовал им, как заклятым врагам России, «а они не преминули воспользоваться этим уроком и учли выгоды, связанные с положением «государственной партии». Постепенно они отказались от чрезмерных своих притязаний – каждый раз за скромную с виду, но реальную уступку.
…На Балканах <Андраши> продолжал политику Бейста, оспаривая у России симпатии вассальных княжеств Турции. Почёт, с которым правители этих княжеств были приняты на Венской выставке 1873 года, оскорбил их властелина – султана; последний тщетно протестовал против непосредственного заключения торговых договоров между империей и его вассалами. При дуалистическом строе разделение власти между несколькими равноправными, а не подчинёнными друг другу органами, каковы австрийский парламент, венгерский парламент и делегации, австрийское министерство, венгерское министерство и общее министерство, влечёт за собой медлительность действий, ослабляет ответственность и идёт на пользу той единственной власти, которая несложна, едина, всюду тождественна и всюду сильна – власти монарха. Искусно направляя делегации против парламентов, пользуясь влиянием <Кальмана> Тиссы на венгерскую палату, воздействуя на австрийских пэров призывом выполнять желание императора, Андраши сумел без государственного переворота, вопреки воле немцев и мадьяр, провести оккупацию Боснии и Герцеговины». [1]
Тиса был представителем радикального крыла венгерской оппозиции, стремившейся добиться от Габсбургов политической самостоятельности Венгрии на основе личной унии с Австрией. Однако, лавируя между фракциями, Тиса сделал политическую карьеру. Став премьер-министром Королевства Венгрии, всячески поддерживал политику Габсбургов.
В свою очередь Австрийское правительство предоставило ему возможность свободно и последовательно проводить мадьяризацию всех невенгерских элементов Транслейтании: славян и даже немцев.
Интересен комментарий по этому поводу теоретика (и практика) марксизма:
«Есть старая специальная система управления, когда буржуазная власть приближает к себе некоторые национальности, даёт им привилегии, а остальные нации принижает, не желая возиться с ними. Таким образом, принижая одну национальность, они давят через неё на остальные. Так управляли, например, в Австрии. Всем известно заявление австрийского министра Бейста, когда он позвал венгерского министра и сказал: «ты управляй своими ордами, а я со своими справлюсь», ты, мол, жми, и дави свои национальности в Венгрии, а я буду давить свои… То же самое было с поляками в самой Австрии. Австрийцы приближали к себе поляков, давали им привилегии, чтобы поляки помогли укрепить австрийцам свои позиции в Польше, и за это давали полякам возможность душить Галицию…» [2]
«Оккупацию Боснии и Герцеговины сделали возможной двое венгров – Андраши и Тисса: один руководил дипломатией монархии, другой – отдав всё своё влияние на службу политике короны, рискуя всей своей популярностью ради её успеха. Как ни был враждебен этой политике венгерский парламент, однако, когда оккупация стала совершившимся фактом, он признал её, отказался от всех соображений, не имеющих отношения к возможным её последствиям, и остался, несмотря ни на что, верным правительству, содействовавшему тому, чтобы его обманули». [3]
Рейхштадтское свидание
Будапештская конвенция – секретное соглашение, подписанное 3 (15 января) 1877 года в Будапеште от имени Российской империи чрезвычайным и полномочным послом в Вене Евгением Петровичем Новиковым и Андраши. Являлась дальнейшим развитием секретного Рейхштадтского соглашения.
Напомним, в Рейхштадтском замке в Богемии 26 июня (8 июля) 1876 года при встрече императора Александра II и министра иностранных дел князя Александра Михайловича Горчакова с австрийским императором Францем Иосифом и министром иностранных дел графом Андраши было заключено секретное соглашение по балканскому вопросу.
Сербо-турецкая война приблизила возможность общеевропейского взрыва при любом исходе столкновения.
Если бы турки разгромили сербов, то Россия обязана была бы вмешаться. При этом был бы возможен конфликт с Габсбургами. А в случае победы Сербии был бы весьма вероятен развал Османской империи, и наступила бы жестокая схватка великих сил за турецкое наследство. Следовательно, политика Санкт-Петербурга заключалась в том, чтобы решить непростую дипломатическую задачу: поддержать православных славян, но при этом не столкнуться с католической империей.
Попыткой решить эту задачу и стало свидание русского и австрийского императоров в Рейхштадском замке.
Соглашение, подготовленное бароном Александром Генриховичем Жомини, не зафиксировано официальным документом: не было подписано ни формальной конвенции, ни даже протокола, но были сделаны лишь записи переговоров.
Итоги свидания были записаны под диктовку Андраши русским послом в Вене, присутствовавшим там; и независимо от этого существовал текст, который Горчаков надиктовал секретарю.
«Эти две записи, никем не заверенные и притом в ряде пунктов расходящиеся друг с другом, являлись единственными документами, в которых закреплены результаты рейхштадтского свидания. Согласно обеим записям, в Рейхштадте было условлено «в настоящий момент» придерживаться «принципа невмешательства». Если же обстановка потребует активных выступлений, решено было действовать по взаимной договорённости. В случае успеха турок обе державы «потребуют восстановления status quo в Сербии». «Что касается Боснии и Герцеговины, державы будут настаивать в Константинополе на том, чтобы они получили устройство, основанное на программе, изложенной в ноте Андраши и в Берлинском меморандуме». Было постановлено, что в случае победы сербов «державы не окажут содействия образованию большого славянского государства».
Впрочем, под давлением России Андраши согласился на некоторое увеличение Сербии и Черногории. Сербия согласно горчаковской записи получала «некоторые части Старой Сербии и Боснии», Черногория же – всю Герцеговину и порт на Адриатическом море.
По записи Андраши, Черногория получала лишь часть Герцеговины. «Остальная часть Боснии и Герцеговины должна быть аннексирована Австро-Венгрией». По русской же записи, Австрия имела право аннексировать только «турецкую Хорватию и некоторые пограничные с ней (т.е. с Австрией) части Боснии, согласно плану, который будет установлен впоследствии». О правах Австрии на Герцеговину в русской записи вообще ничего не упоминалось.
…В случае полного развала Европейской Турции Болгария и Румелия должны были, по русской версии, образовать независимые княжества, по австрийской записи, – автономные провинции Османской империи; по австрийской версии, такой провинцией могла стать и Албания. Эпир, Фессалию (по австрийской записи и Крит) предполагалось передать Греции. Наконец, «Константинополь мог бы стать вольным городом».
Рейхштадтское соглашение таило в себе зародыши множества недоразумений и конфликтов.
В августе 1876 г., после того, как сербы потерпели несколько поражений, Горчаков предложил Бисмарку взять на себя инициативу созыва международной конференции для выработки условий сербо-турецкого мира. Но Бисмарк вовсе не желал, чтобы России удалось без войны разыграть роль покровительницы славян. Наоборот, он очень хотел, чтобы Россия поглубже завязла в восточных делах. Поэтому Бисмарк отклонил предложение Горчакова. Он всячески провоцировал осложнения между Россией, с одной стороны, и Англией и Турцией – с другой». [4]
«Синдром Крымской войны» довлел и над императором Александром II, и над Горчаковым. Исходя из такого настроя, они прилагали возможные усилия к тому, чтобы предотвратить широкомасштабный конфликт. К тому же в течение двадцатилетнего служения во главе МИДа князь А.М.Горчаков упорно избегал вовлечения России в конфликты, дабы создать благоприятные внешнеполитические условия для реформ, осуществляемых Александром II.
Не будем перечислять все то, что в российских реалиях просто вопило против новой войны. Это – вещи известные.
«Помимо этих, очевидных для любого аналитического ума сложностей, существовали иные, скрытые от общественности. Демарши в Вене обнаружили, что Австро-Венгрия заломит несусветную цену за свой нейтралитет в случае войны. …Итоги войны, о чём мало кто знал, заранее урезывались. Предстоящая оккупация боснийцев и герцеговинцев Габсбургской монархией, что было зафиксировано в Будапештской конвенции 1877 г., в обмен на австрийский нейтралитет, тяжёлым гнётом ложилась на совесть Горчакова». [5]
Будапештская конвенция
Конвенция подписана в период проведения зашедшей в тупик Константинопольской конференции. Тогда, как мы помним, когда турки – видимо, не без ведома Дизраэли, – разыграли комедию с торжественным провозглашением конституции. И это провозглашение, объявленное как раз в день заключительного заседания конференции, требовавшей автономии для Боснии, Герцеговины и Болгарии, свело на нет всю работу конференции. Дескать, «к чему оговаривать некие особенные условия для отдельных вилайетов, когда конституция уже дарует все необходимые реформы!»
После неудачи этого предприятия между Россией и Австро-Венгрией начались переговоры относительно позиции Вены в случае русско-турецкой войны.
15 января 1877 г. в Будапеште было, наконец, подписано секретное соглашение, обеспечивавшее нейтралитет Австро-Венгрии. Обе конвенции – и основная, и дополнительная – были подписаны Андраши и русским послом в Вене Новиковым.
В конвенции подтверждались положения Рейхштадтского соглашения о недопущении создания большого славянского государства на Балканах, о независимости Болгарии, Румынии, Албании, о судьбах Фессалии, Эпира, Крита, а равно и Константинополя.
В обмен на доброжелательный нейтралитет Австро-Венгрии в предстоящей войне России с турками Габсбургам предоставлялось право выбора момента и способа занятия своими войсками Боснии и Герцеговины.
Дополнительной конвенцией предусматривались возможные приобретения по результатам войны: Австро-Венгрия должна была получить Боснию и Герцеговину, исключая Ново-Пазарский санджак, а Россия должна была вернуть Буджак (юго-западную Бессарабию), утраченный после Крымской войны.
За нейтралитет Австро-Венгрии России пришлось заплатить очень дорого.
И дело тут не только в том, что результаты возможной победы были изначально урезаны до минимума.
Дело в том, что наши недоброжелатели до сих пор не упускают возможности пнуть Россию, напомнив о том, что Санкт-Петербург якобы обошёлся с сербами совершенно цинично. Во всяком случае, в Сербии об этом не устают напоминать.
Поэтому и мы должны не умалчивать об этом прискорбном эпизоде, но истолковывать его исходя из контекста, который бы включал возможно более широкий спектр проблем. Тогда и пинать нашу дипломатию будет не так просто. А, стало быть, сложнее будет подбрасывать хворост в костерок русофобии [6]
Литература
[1] История XIX века. Под редакцией профессоров Лависса и Рамбо. Т.7., М., ОГИЗ, 1939, стр. 176;
[2] Сталин И.В., Марксизм и национально-колониальный вопрос, М., ПартИздат ЦК ВКП(б), 1934, стр. 121-122;
[3] История XIX века… стр. 177
[4] История дипломатии. Под редакцией академика В.П.Потёмкина, Т.2. Дипломатия в Новое время (1872-1919 гг.), М., ОГИЗ, 1945, стр. 29-30
[5] В.Н.Виноградов, Институт славяноведения РАН. Балканская эпопея князя А.М.Горчакова, М., Наука, 2005, стр. 211-212;
[6] «Краљевина Србија». Режија: Здравко Шотра. Издавач: Кошутњак Филм, 2008.