Гуситское движение в Чехии традиционно являлось одной из излюбленных тем русского славяноведения в XIX веке. По справедливому мнению известного отечественного историка-слависта, заслуженного профессора МГУ Л.П. Лаптевой, ведущего специалиста по русской историографии зарубежных славян, «из всех сюжетов средневековой истории Чехии именно гуситское движение привлекло наибольшее внимание русских славистов… Представляется правомерным утверждение, что в русской историографии зарубежных славян гуситология занимает одно из самых важных мест….» (Лаптева 1978: 5-6)[1].
Столь повышенное внимание к данной теме объяснялось как растущим интересом русской научной общественности к зарубежным славянским народам, так и заметным оживлением внутрироссийской дискуссии о дальнейших путях развития России, важным составным элементом которой были ожесточённые мировоззренческие споры западников и славянофилов. Кроме того, академический и общественный интерес к личности и учению Яна Гуса подогревался и тем обстоятельством, что в 1869 г. в России широко отмечалось 500-летие знаменитого чешского реформатора и церковного деятеля.
Первые в русской историографии научные труды, посвящённые гуситскому движению в Чехии, принадлежали перу московского историка-слависта В.А. Елагина, который, являясь младшим братом известных мыслителей-славянофилов И. и П. Киреевских, глубоко усвоил основу славянофильского мировоззрения ещё в юности и опирался на неё в своей научной деятельности (Лаптева 1978: 31)[2].
В своей пространной рецензии на «Историю Чехии» известного чешского историка и политического деятеля Ф. Палацкого В.А. Елагин со славянофильских позиций критикует Палацкого за его недоверчиво-скептическое отношение к тем мыслителям и писателям XVII века, которые объясняли гуситское движение «непосредственным влиянием» греко-славянской традиции. Напротив, по глубокому убеждению В.А. Елагина, имело место самое прямое влияние «православной стихии» на гуситское движение; при этом русский историк впервые в русской гуситологии высказал принципиально важный тезис о существовании непрерывной православной традиции в Чехии от эпохи Кирилла и Мефодия вплоть до начала гуситской эпохи. Впоследствии данный тезис развили другие русские историки-славянофилы. В частности, В.А. Елагин полагал, что многочисленные семена, «посеянные св. Мефодием и политые кровью св. Людмилы и св. Вячеслава» не только не погибли в чешских землях, но и дали здесь обильные всходы, поскольку чешская народная жизнь, как подчёркивал русский историк-славист, никогда не переставала бороться с папством (Елагин 1848)[3].
Ссылаясь на свидетельства известного чешского мыслителя, учёного и педагога Я.А. Коменского и других видных чешских деятелей XVII века, Елагин обращал внимание на существование устойчивых греко-славянских традиций и обрядов в Чехии ещё в XIV веке, что, как он считал, позволяло усматривать прямую историческую преемственность церковной жизни чешского народа вплоть до эпохи гуситского движения. В качестве конкретных примеров «православного наследия» в Чешских землях Елагин указывал на длительные и глубокие традиции славянской литургии в пражском Эмаузском монастыре (монастырь «На Слованех» неподалёку от исторического центра чешской столицы).
Ещё большее внимание историческим связям между Православием и гуситским движением уделил известный московский учёный-славист Е.П. Новиков, опубликовавший в 1848 г. программную статью «Православие у чехов» и в 1859 г. фундаментальную монографию «Гус и Лютер», которая стала первым солидным монографическим исследованием в богатой русской историографии гуситского движения.
Рассматривая историю Чехии и западных славян в целом в соответствии со славянофильской традицией как проявление постоянной борьбы «латинского» и «греко-славянского» начала, Е.П. Новиков доказывал, что «в противоположности между Гусом и Лютером отразились принципиальные различия между «славянским и германским мирами». Кротость, эмоциональность, религиозность и нравственная чистота Гуса противопоставляются русским учёным жесткости, рассудительности, предельной рациональности и земным устремлениям Лютера» (Лаптева 1978: 37)[4].
Е.П. Новиков постоянно и весьма настойчиво подчёркивал в своих трудах мысль о том, что именно православие «составляло некогда первоначальное исповедание всех славянских племён… Чехи в черте вероисповедной сходятся с восточными и южными братьями своими… Вероисповедное брожение в чехах носило греко-славянский характер…, что даёт право причислять их к явлениям церкви греко-восточной…» (Новиков 1848: 12-24)[5].
Любопытные мысли Е.П. Новиков высказал и по поводу некоторых идейных предшественников Яна Гуса и чешской реформации в целом. Так, русский учёный-славист подчёркивал «истинно славянское предназначение» Яна Милича из Кромержижа, указывая, что этот непосредственный идейный предшественник гусизма являлся «тайным сторонником православия» и его деятельность в полной мере принадлежит «истории православия в Чехии, несмотря на усилия некоторых приобщить его к явлениям западной церкви…» (Лаптева 1978: 38)[6].
Весомую дань гуситскому движению в Чехии отдал и один из самых крупных и известных русских историков-славистов славянофильского направления А.Ф. Гильфердинг, который также считал несомненным существование органичной «внутренней связи» между изначально православным крещением Чехии в кирилло-мефодиевскую эпоху и гуситским движением.
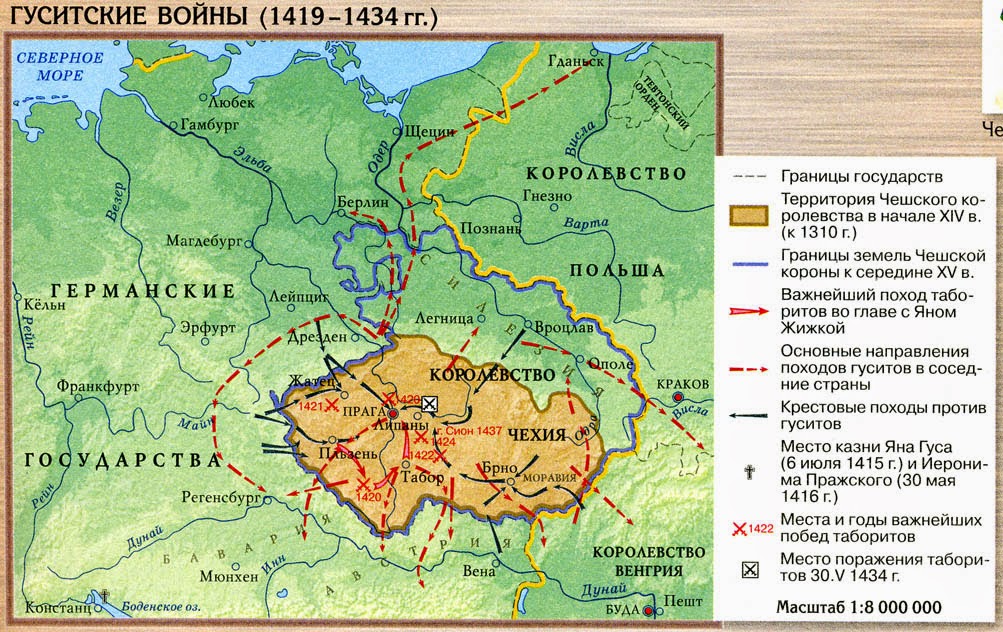
В отличие от своих славянофильских предшественников, А.Ф. Гильфердинг рассматривал гуситскую эпоху в значительно более широком историческом и социокультурном контексте, заслуженно уделив колоссальное внимание социально-экономическим причинам и истокам гуситского движения. Так, А.Ф. Гильфердинг с сожалением констатировал, что к началу XV века «славянская Прага окончательно превратилась центр политической и умственной жизни Священной Римской империи германской нации». По вполне обоснованному мнению русского историка, именно засилье немецкого элемента, игравшего решающую роль в городах и в высших эшелонах церковной иерархии, обусловило ранее пробуждение у чехов национального самосознания, с самого начала имевшего ярко выраженную антинемецкую направленность. В связи с этим обстоятельством он считал одной из исторических задач гуситского движения освобождение «чехов-славян» от преобладания немцев. Примечательно, что А.Ф. Гильфердинг первым в русской историографии и одним из первых в европейской историографии указал на исключительно важную роль национального вопроса в становлении и развитии гуситского движения.
Подобно прочим историкам-славистам, А.Ф. Гильфердинг подчёркивал принципиальную, по его мнению, разницу между Гусом и более поздними идеологами протестантизма, которая, как он считал, заключалась в том, что Гус «по смыслу своего учения» не был протестантом, так как совершенно не думал об учреждении новой церкви (Гильфердинг 1868: 359)[7]. Более того, А.Ф, Гильфердинг прямо утверждал, что чехи, как славяне, не были и в принципе не могли быть вождями «германского мира в его духовном развитии» и сами не хотели быть протестантами (Гильфердинг 1868: 356)[8].
Значительно более позитивно, чем прочие представители русской историографии славянофильского направления, оценивал А.Ф. Гильфердинг радикальное крыло гуситского движения в лице таборитов. Полагая, что табориты изначально стремились к восстановлению «первобытной церкви», Гильфердинг утверждал, что исключительно ради достижения этой цели они вели поистине революционную борьбу «против западного мира». По образному выражению русского историка, табориты взяли на себя «обязанность мстителей за нарушения христианского закона, за оскорбление языка чешского и славянского» (Гильфердинг 1856: 368)[9].
Гуситское движение в Чехии в целом и его глубокие социокультурные последствия как для Чехии, так и для других славянских народов А.Ф. Гильфердинг оценивал исключительно высоко. По его мнению, эпоха гусизма в Чехии стала «историческим апогеем в развитии всего западного славянства», поскольку именно в это время славянское племя сделало наиболее активную и последовательную попытку освободиться от «чужеземных начал» и создать условия для восстановления и сохранения славянской самобытности. Оценивая вклад А.Ф. Гильфердинга в развитие отечественной славистики, Л.П. Лаптева отмечала, что Гильфердинг «критичнее, чем его предшественники, относился к источникам, объективнее их оценивал. Его сочинения отразили возросший к 60-м годам XIX века уровень знаний о гуситской эпохе, что нашло своё выражение особенно в чешской и немецкой историографии» (Лаптева 1978: 61)[10].
В этой связи показательно, что большую роль кирилло-мефодиевской традиции и Восточной церкви в целом в христианизации Чешских земель признавал и ведущий чешский историк и политик XIX в. Ф. Палацкий, считающийся основателем современной чешской историографии. По его авторитетному мнению, именно крещение чешского князя Борживоя и его супруги княгини Людмилы во второй половине IX в. архиепископом Моравским Мефодием означало «окончательную победу христианства над язычеством в Чехии» (Palacký 1976: 40)[11]. Крещённая Мефодием княгиня Людмила, супруга чешского князя Борживоя, оказала решающее влияние на воспитание и образование своего внука Вацлава, который, став князем и признав вассальную зависимость Чехии от соседней Германии в 929 г., тем не менее, продолжал демонстрировать интерес и уважение к церковнославянскому культурному наследию и обрядам Восточной церкви.
Впрочем, последователи Ф. Палацкого как из числа чешских историков, так и политиков не проявляли должного интереса к данной теме, а большой поклонник и пропагандист идей Палацкого первый президент Чехословакии Т.Г. Масарик, оказавший решающее влияние на чешскую политику исторической памяти в первой половине XX в., трактовал гуситское движение в Чехии исключительно как явление западноевропейской церковной реформации, всячески замалчивая и совершенно игнорируя очевидные связи и параллели между гусизмом и Восточной церковью.
***
К сожалению, в советской историографии в силу крайне упрощённых идеологических соображений доминировал совершенно необоснованный высокомерно-критический взгляд на представителей славянофильского направления в российской исторической науке, которые трактовались советскими историками-марксистами как замшелые ретрограды, консерваторы и догматики. Между тем, именно историки-славянофилы, многие из которых были блестящими интеллектуалами и носителями поистине энциклопедических познаний, первыми обратили пристальное и совершенно заслуженное внимание на гуситское движение в Чехии как на проблему общеевропейского и общеславянского масштаба, достойную тщательного изучения, опубликовав фундаментальные и глубокие труды по этой теме и став, таким образом, основоположниками отечественной гуситологии.
Стоит отметить, что многие мысли и наблюдения русских историков-славянофилов по поводу гуситского движения в известной степени разделяются и представителями современной Православной церкви Чешских земель и Словакии. Так, архиепископ Пражский и Чешских земель Христофор в одной из своих работ подчёркивал, что «истинно христианское и вселенское наследие византийской миссии навсегда осталось вписано в сердцах христиан Чешских земель и Моравии… Святой остаток православных христиан пребывал в Чехии вплоть до глубокого средневековья. Может быть, именно присутствие этих «восточных схизматиков» заставило короля Карла IV через 300 лет основать монастырь славянского обряда «На Слованех» (Архиепископ Пражский и Чешских земель Христофор 2006: 82)[12].
Что же касается связей Православной церкви и гуситского движения, то, по словам Архиепископа Пражского и Чешских земель Христофора, «чешская реформация, вдохновлённая идеями Я. Гуса, ратовала за возвращение к литургическим традициям Древней церкви: причащение под двумя видами…, совершение богослужений на понятном языке, произнесение проповедей на чешском языке, введение в литургическую практику песнопений… И пусть чешская реформация и не исходила непосредственно из области исторического православия, тем не менее, чешские реформаторы осознавали общность своих усилий с верой и обрядом Восточной церкви. Соратник Я. Гуса святой мученик Иероним Пражский в 1413 году предпринял путешествие на Восток, где был принят в евхаристическое общение местными церквами…» (Архиепископ Пражский и Чешских земель Христофор 2006: 84)[13].
Очевидно, что данные мысли авторитетного представителя Православной церкви Чешских земель и Словакии весьма близки тем идеям, которые были выражены русскими историками-славистами ещё в середине и во второй половине XIX века.
ЛИТЕРАТУРА
Архиепископ Пражский и Чешских земель Христофор. Православие в Словакии и Чехии. Истоки, современное состояние, перспективы // Церковь и время. Научно-богословский и церковно-общественный журнал. 2006. № 2(35).
Гильфердинг А.Ф. Очерк истории Чехии. Санкт-Петербург, 1868.
Елагин В.А. Об «Истории Чехии» Франца Палацкого. Москва, 1848.
Лаптева Л.П. Русская историография гуситского движения (40-е годы XIX века – 1917 г.). Москва: Издательство Московского университета, 1978.
Новиков Е.П. Православие у чехов. Москва, 1848.
Palacký F. Z dějin národu českého. Praha: Československý spisovatel, 1976.
[1] Лаптева Л.П. Русская историография гуситского движения (40-е годы XIX века – 1917 г.). Москва: Издательство Московского университета, 1978. С. 5-6.
[2] Там же. С. 31.
[3] См. Елагин В.А. Об «Истории Чехии» Франца Палацкого. Москва, 1848.
[4] Лаптева Л.П. Указ. соч. С. 37.
[5] Новиков Е.П. Православие у чехов. Москва, 1848. С 12-24.
[6] Лаптева Л.П. Указ. соч. С. 38.
[7] Гильфердинг А.Ф. Очерк истории Чехии. Санкт-Петербург, 1868. С. 359.
[8] Там же. С. 356.
[9] Там же. С. 368.
[10] Лаптева Л.П. Указ. соч. С. 61.
[11] Palacký F. Z dějin národu českého. Praha: Československý spisovatel, 1976. S. 40.
[12] Архиепископ Пражский и Чешских земель Христофор. Православие в Словакии и Чехии. Истоки, современное состояние, перспективы // Церковь и время. Научно-богословский и церковно-общественный журнал. 2006. № 2(35). С. 82.
[13] Там же. С. 84.
