Аннотация
Накануне Январского восстания 1863 в белорусских губерниях политический протест проходил под польскими национальными символами. Правительство создало полицейские суды для борьбы с проявлениями протеста правовыми методами. Однако в условиях политического конфликта эта мера оказалась неэффективной.
_________________________________________________________
Накануне Январского восстания 1863 г. по всем западным, в том числе белорусским, губерниям прокатилась волна манифестаций и иных оппозиционных действий в знак солидарности с протестом жителей Царства Польского. Эти акции сопровождались активным использованием символики и символически окрашенных действий: пением гимнов, ношением польской традиционной одежды (конфедераток, чамарек) и знаков траура в память о погибших в Варшаве, использованием булавок, заколок, выполненных в форме польского геральдического орла. В глазах властей публичная демонстрация знаков протеста символизировала сочувствие «к той эпохе, когда этот край … находился временно в составе бывшего Польского королевства» [3, с. 221]. Очевидно, что правительство не могло не реагировать на распространение протестной символики, с которой пришлось бороться прежде всего чинам общей полиции.

5 августа 1861 г. было принято решение о создании полицейских и временных апелляционных судов, целью которых стала борьба с проявлениями оппозиционных настроений части населения белорусских губерний [3, с. 221–225]. Полицейские суды, несмотря на их название, зависели от полиции лишь в том, что обвинительные дела передавались в суд по инициативе чинов полиции. Решение о возбуждении дела принималось стряпчим или комиссаром от правительства. Чиновники полиции выступали в качестве свидетелей в суде под присягой по требованию подсудимого. 10 августа 1861 г. начальники губерний были снабжены инструкцией, в которой предписывалось отдавать под суд в первую очередь наиболее влиятельных и состоятельных застрельщиков беспорядков. На них у полиции должны быть убедительные и бесспорные доказательства, чтобы «предупредить попытки парализовать действия судов, посредством слишком значительного числа подсудимых» [1, л. 226].
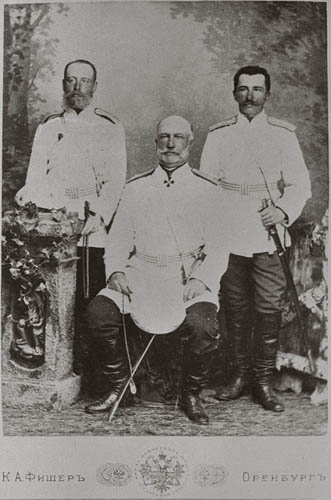
Однако практика судопроизводства показала их неэффективность, поскольку значительный процент подсудимых оправдывался, а сами штрафы и административные наказания были преимущественно легкими. В свою очередь полиция теряла авторитет в глазах жителей, но и утрачивала веру в силу применяемого наказания. По крайней мере, в своем письме министру внутренних дел от 24 октября 1861 г. минский губернатор Э.Ф. Келлер констатировал, что полицейские суды «не достигают и не могут достичь той цели» [4, с. 46]. Такая же ситуация сложилась в Могилевской губернии, в которой суд открылся 12 сентября 1861 г. Так, при вызове полицией обвиняемых «в полицейский суд с трудом находят свидетелей, а в опровержение их показаний охотно принимают на себя свидетельство многие лица в пользу обвиняемых, чрез что полицейский суд не достигает своей цели» [6, с. 606]. Неэффективность полицейских судов в преследовании приверженности идеям польского национального движения была очевидна почти всем представителям администрации. В своем отчете от 1 декабря 1861 г. начальник IV округа корпуса жандармов генерал-майор А.М. Гильдебрант констатировал, что стремление устанавливать «наказания за политические проступки законностью и гласностью при скором ходе процесса» в полицейских судах завершилось неудачей. Причина заключалась в саботаже законности из соображений политической борьбы и солидарности. Так, «если полицейский чиновник укажет, например, лицо, участвовавшее в пении возмутительного гимна в костеле, и представит двух в том свидетелей, то обвиняемый укажет 10 или более других, которые смело присягают (имея на то разрешение ксендзов), что обвиняемое лицо в костеле не было, а находилось во время пения гимна в таком-то доме» [6, с. 74].
Несмотря на многочисленные донесения о неэффективности судов, они, по всей видимости, не оказали влияния на Министерство внутренних дел. По крайней мере, в апреле 1862 г. виленский генерал-губернатор В.И. Назимов направил аналогичное по содержанию отношение на имя министра внутренних дел. В нем констатировалось, что применение полноценной судебной процедуры в условиях негативного отношения к властям «не только не приносит никакой существенной пользы, но напротив, вследствие ухищрения руководителей участников манифестаций, не имея возможности подвергать виновных заслуженному взысканию, в глазах местного населения бесполезными действиями своими ослабляет правительственную власть» [5, с. 63]. В частности, на показания чинов полиции легко находились лжесвидетели в пользу нарушителя, чьи заявления приводили к тому, что «свидетель чиновник полиции, должен выйти из судейского присутствия со стыдом и осмеянный» [5, с. 61]. Отнюдь не случайно генерал-губернатор предлагал свести к минимуму процедуру, сразу же представляя к суду задержанных под арестом без привлечения свидетелей на основании показаний полицейских, ограничив перечень обвинений лишь делами о ношении оппозиционной символики и пении гимнов. В подтверждение слов генерал-губернатора обращает на себя внимание высокий процент оправданных полицейскими судами. Так, с момента создания полицейских судов в Виленской губернии по апрель 1862 г. из 81 привлеченных к суду осуждены были лишь 14 (17 %) человек; в Гродненской – 1 (12,5 %) из 8 [5, с. 62]. Однако и в последующем положение принципиально не изменилось. По крайней мере, в ведомости от 10 июля 1862 г. по Виленской губернии было привлечено к суду 107 чел., а осуждено – 16 (15%), в Гродненской губернии – 6 (40 %) из 15 [1, л. 22]. Согласно сведениям минского временного военного губернатора от 13 апреля 1862 г. из 122 привлеченных к суду осуждению подверглись 68 чел. (56 %) [1, л. 5–6]. В Могилевской губернии согласно отчету от 14 августа 1862 г. из 42 человек под суд пошло 19 (45 %) обвиняемых [Дело, 1863: 23]. В Витебской губернии на момент 13 апреля 1862 г. к полицейскому суду не привлекли ни одного человека.

4 апреля 1863 г. министр внутренних дел П.А. Валуев довел до виленского генерал-губернатора решение Западного Комитета, согласно которому апелляционный суд должен был проверять приговоры на предмет упущений или злоупотреблений чиновников нижестоящего суда. При этом признавалось, что «низшие полицейские суды не принесли до сих пор всей ожидавшейся от них пользы, потому что члены сих судов не везде исполняли в точности свои обязанности» [5, с. 352]. Однако с прибытием в край нового генерал-губернатора М.Н. Муравьева вопрос о совершенствовании работы судов отпал сам собой, поскольку повсеместно было введено военное положение. 31 мая 1863 г. начальник Виленской губернии, а 7 июня 1863 г. прочие губернаторы получили дополнение к Инструкции для устройства военно-гражданского управления, в которой прописывались меры наказания по отношению к лицам, демонстрирующим протестную символику [2, с. 109–110]. Санкция налагалась в административном порядке, а в случае неоднократного рецидива виновное лицо предавалось военному суду.

В целом следует отметить, что с самого начала политический волнений в белорусских губерниях общей полиции не удавалось пресечь использование символики политического протеста. Используя правовые методы, полиции не получилось принудить население к соблюдению внешней лояльности. Практика полицейских судов показала принципиальную невозможность успешной борьбы с политическим протестом накануне Январского восстания 1863 г. без применения легального насилия и отказа от идеи последовательного соблюдения гражданских прав подданных империи. Особенности процессуального права в полицейских судах по большей части безнаказанно использовались протестующими против авторитета полиции и власти. Однако превращение права в инструмент политической борьбы обернулось против сторонников польской независимости. Введение военного положения вследствие неспособности удержать ситуацию под контролем привело к тому, что практически неизбежное наказание за демонстрацию оппозиционности выносилось по упрощенной процедуре на основании лишь материалов дознания. В этих условиях символы протеста достаточно быстро исчезли из публичного пространства.
- Дело о введении в 9-ти западных губерниях управления аналогичного с управлением в центральных губерниях России // РГИА. Ф. 1282. Оп. 2. Д. 334.
- Муравьев М.Н. Сборник распоряжений графа Михаила Николаевича Муравьева по усмирению польского мятежа в северо-западных губерниях 1863–1864 / Составил Н. Цылов. Вильна: тип. А. Киркора и братьев Роммов, 1866. 383 с.
- Об учреждении полицейских судов в западных губерниях // ПСЗРИ. Собр. 2-е. 1863. Т. XXXVI. № 37327.
- Паўстанне 1863–1864 гадоў у Віцебскай, Магілёўскай і Мінскай губернях : Дакументы і матэрыялы гістарічнага архіва Беларусі / уклад. Дз. Ч. Матвейчык; рэдкал.: У. І. Адамушка [і інш.]. Мінск: А.М. Вараксін, 2014. 544 с.
- Переписка по политическим делам гражданского управления с 1 января 1862 по май 1863 г. / Сост. А.И. Миловидов. Вильна: Губ. тип, 1913. 464 с.
- Революционный подъем в Литве и Белоруссии в 1861–1862 гг. / Предисл. Ю. Жюгжды и С. Лазутка. Москва: Наука, 1964. 707 с.
