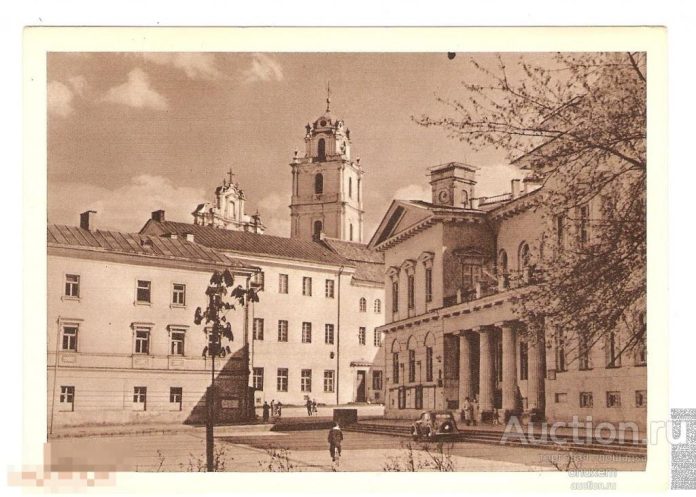Католическая Главная семинария, функционировавшая в составе Виленского императорского университета в 1808–1832 гг. в качестве высшего учебного заведения, готовившего кандидатов на высшие должности в римско‒католической и униатской иерархии, представляет особый интерес в контексте ликвидации унии на белорусско‒литовских землях, завершившейся Полоцким церковным собором 1839 г. Почти все ключевые фигуры, сыгравшие ведущую роль в данном процессе, являлись выпускниками этого учебного заведения. Среди них ‒ представители епископата, включая митрополита Иосифа (Семашко), архиепископов Антония (Зубко) и Василия (Лужинского), а также преподаватели основанной в 1828 г. Литовской духовной семинарии, благочинные и приходское духовенство.
В этом контексте Главная семинария привлекала значительное внимание как российской, так и польской исторической науки. Существенный вклад в изучение ее роли в развитии духовного образования внесли профессор Санкт‒Петербургской духовной академии П. Н. Жукович, а также польские исследователи Ю. Белинский, В. Воротыньский и др. Современные исследователи также предпринимают попытки оценить роль Виленской школы в контексте упразднения унии, предлагая различные интерпретации ее влияния на выпускников[1].
Создание семинарии при Виленском университете восходит к реформам митрополита С. Богуша‒Сестренцевича, стремившегося к повышению образовательного уровня духовенства. Окончательное решение об учреждении семинарии было принято в 1803 г. на фоне реформ Александра I. Значительную роль в этом процессе сыграл куратор Виленского учебного округа князь А. Чарторыский, рассматривавший духовенство, включая униатов, как ключевой элемент просвещения народных масс[2].
Главная семинария задумывалась как альтернатива епархиальным семинариям и была ориентирована на формирование «просвещенного духовенства», обладающего широкой богословской и научной подготовкой. Подход Чарторыского отражал характерную для эпохи тенденцию модернизации церковного образования. Освобождение семинарии от контроля Виленского епископа и передача ее под управление университета и духовной коллегии были видимым заимствованием опыта реформ Иосифа II в Австрийской империи[3].
Первоначально семинария предназначалась исключительно для римско‒католического духовенства, однако по инициативе митрополита И. Лисовского треть мест была выделена для униатов. Это вызвало недовольство части католического клира, но нашло поддержку у князя А. Чарторыского, позитивно смотревшего на возможность получения высшего образования униатскими священниками.
За сравнительно короткий период функционирования Главной семинарии в ее истории можно выделить три ключевых этапа, характеризующихся различными условиями для униатов: 1808–1812, 1816–1826 и 1826–1830 гг.
На первом этапе, с момента основания семинарии до ее закрытия в 1812 г. в связи с военными действиями, униатские воспитанники сохраняли относительно большую степень автономии в литургической жизни. При этом совместное обучение римо‒католиков и униатов в рамках одного учебного заведения сопровождалось рядом организационных трудностей. В частности, различие в календарях создавало определенные проблемы, которые были решены в пользу римско‒католической традиции: униатам предписывалось соблюдать римский календарь в вопросах праздников и постных дней[4].
В воскресные и праздничные дни униаты посещали торжественные богослужения в Свято‒Троицком базилианском монастыре, предварительно присутствуя на ранней читанной литургии, совершаемой в семинарии униатским префектом[5]. Анализ семинарского ежедневника свидетельствует о том, что в семинарии ежедневно совершались отдельные римско‒католическая и униатская литургии. Униатские клирики, обозначенные в источнике как «русские», участвовали в богослужении и причащении во время литургии, совершаемой униатским префектом[6] по воскресеньям и праздникам с 7.30 до 8.00, а по будням с 6.00 до 6.30[7]. Поздняя литургия совершалась в Троицкой церкви с 9.30 до 11.00. Семинаристы были обязаны на ней прислуживать в алтаре или петь на хоре[8]. Из семинарского ежедневника следует, что униаты на латинских богослужениях бывали крайне редко, например в день св. Яна Кентского ‒ то есть в актовый день семинарии[9]. Так же униаты совершали ранние и вечерние молитвы отдельно от латинян, при этом вместе слушали конференции ‒ еженедельные поучения семинарского духовника[10].
Примечательно, что в Свято‒Троицкой базилианской церкви сохранялись традиционные элементы богослужебного устава. Так, 24 декабря 1810 г. униатские семинаристы отправились на богослужение Навечерия Рождества Христова в полдень, а затем на всенощное бдение и литургию к 4:00 утра[11]. На страстной и светлой седмице униаты также посещали все уставные богослужения все в том же храме[12]. В Троицком храме, в отличие от большинства униатских церквей, существовал иконостас, а богослужение совершалось в облачениях, хотя и в сопровождении органа[13]. Особое внимание также в этот период уделялось обучению литургике и церковному пению, экзамен по которым проходил несколько раз в учебный год[14].
Данные семинарского ежедневника свидетельствуют, что в 1808‒1812 гг. униаты, обучаясь вместе с римо‒католиками, сохраняли довольно широкую автономию в своей богослужебной жизни. Эти сведения некоторым образом конкретизируют каким именно был процесс латинизации в унии.
Во второй период (1816–1826) богослужебная жизнь униатов в семинарии претерпела изменения. Утренние молитвы и ранняя литургия стали общими для всех латинян и униатов. Ранняя литургия совершалась поочередно: один месяц ‒ униатская литургия, следующий ‒ латинская. По воскресеньям все воспитанники, включая униатов, посещали университетский или кафедральный костел в Вильно, а богослужения в Троицком храме униаты посещали лишь в дни, отмечаемые исключительно Восточной Церковью[15]. Доступные источники не содержат так же сведений о систематическом обучении литургике и церковному пению в этот период. Огульной чертой обоих периодов было отсутствие обучения униатов богослужебному, то есть церковно‒славянскому, языку. Общим для латинян и униатов был духовник. В этом контексте обвинения базилиан Троицкой обители в латинизации униатов, обучавшихся в Главной семинарии, представляются вполне естественными[16].
Ситуация изменилась в 1825/26 учебном году, когда министр просвещения А. А. Шишков, сторонник церковно‒славянского языка, обратил внимание на положение униатов. По его инициативе для преподавания церковно‒славянского языка был возвращен из ссылки прот. М. Бобровский, ранее отстраненный по делу филоматов. В 1826/27 учебном году он совместно с прот. А. Сосновским, его сыном свящ. Платоном и регентом семинарии Мамертом Гербуртом разработал план детального обучения литургике[17]. С 1827 г. униаты начали участвовать в богослужениях в Виленской Никольской церкви, настоятелями которой были прот. А. Сосновский, а затем М. Бобровский. В том же году были введены отдельные униатские медитации и учреждена должность духовника для униатов, которую занял выпускник семинарии Игнатий Пильховский. Он, начиная с сентября 1822 г., каждый день совершал для униатов литургию и вечернее богослужение[18].
Предлагалось даже ввести отдельную трапезную для униатов, на что, однако, не готово было идти руководство семинарии. Отдельно стоит заметить, что данные изменения были обусловлены не только вмешательством А. А. Шишкова и активной позицией членов Брестского капитула, трудившихся в семинарии. Регент семинарии М. Гербурт активно противился данным изменениям, полагая, что разделение студентов по обрядам может привести к укоренению у них представления о принадлежности к различным исповеданиям[19].
В русской историографии утвердилось мнение, что богослужения в Никольском храме соответствовали уставу[20]. Проф. И. Филевич и другие исследователи в свою очередь оспаривали эту точку зрения. В отсутствие достаточных источников детальная реконструкция их порядка невозможна[21]. Известно, что униатские семинаристы активно практиковались в проповеди и, вероятно, исполняли некоторые диаконские обязанности ‒ чтение Евангелия, каждение, произнесение ектений ‒ без совершения действий с сосудами. Инициатором такого подхода был прот. М. Бобровский, обосновавший его в письме митр. Иосафату (Булгаку): если каноническое право требует диаконской хиротонии для проповеди, а митрополит допускает семинаристов, имеющих minores ordinis к ней по диспенсации, то логично разрешить и другие диаконские функции[22]. В этот период при семинарии был создан хор, в котором участвовали как униаты, так и латиняне. Руководил им униатский префект Василий Лужинский (впоследствии архиепископ Полоцкий)[23].
Процесс «делатинизации» униатов в Главной семинарии был прерван указом 1828 г., запретившим их прием. Последний выпуск униатских воспитанников состоялся в 1830 г., после чего семинария окончательно стала сугубо римско‒католической школой. После восстания 1831 г. Виленский университет был закрыт, а Главная семинария преобразована в римско‒католическую духовную академию. Последним униатом, работавшим в ее стенах, оставался М. Бобровский, покинувший духовную школу на рубеже 1832‒1833 г.[24]
Таким образом, статус униатов в Главной семинарии не был устойчивым и претерпевал значительные изменения на разных этапах ее функционирования. Подход к богослужебной практике и подготовке будущих униатских священнослужителей, впоследствии присоединившихся к Православию, прошел сложную эволюцию: от ограниченного взаимодействия с римским обрядом через значительное сокращение автономии униатов до их почти полной институциональной самостоятельности. Этот изменения стали частью более широкого процесса трансформации унии, закончившийся воссоединением 1839 г., и отчасти предопределили его.
Источники и литература
- Долбилов М. Д. Русский край, чужая вера : этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. Москва: Новое литературное обозрение, 2010. 1000 с.
- На перехресті культур: Монастир і храм Пресвятої Трійці у Вільнюсі / ред. Альфредаса Бумблаускаса, Сальвіюса Кулявічюса та Ігоря Скочиляса. Львів: УКУ, 2019. 912 с.
- Описание документов архива западнорусских униатских митрополитов 1701–1839. / ред. С. Г. Рункевич. СПб., 1907. 1631 с.
- Романчук А., прот. Главная семинария при Виленском университете : воспитание и образование католического духовенства униатского обряда // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта. Сер. 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. 2006. № 4. С. 3–9.
- Свидерский Л. Иоанн Крассовский: полоцкий униатский архиепископ. Витебск. 1911. 437 с.
- Филевич И. Вопрос о воссоединении западно-русских униатов в его новейшей постановке // Варшавские университетские известия. 1891. № 7. С. 1–31.
- Янковский П., прот. Записки сельского священника. Минск–Жировичи, 2019. 256 с.
- Jogėla V. Vilniaus Romos katalikų dvasinė akademija 1833‒1842 m. Vilnius: Eugrimas, 1997. 234 p.
- Kuzicki J. Książę Adam Jerzy Czartoryski i jego obóz polityczny wobec grekokatolików // Prace Historyczne. 2023. № 150. S. 91‒120.
- Ustawy ogólne i szczególne Głównego Duchownego Seminarium przy Imperatorskim Uniwersytecie Wileńskim. Wilno: Józef Zawadzki typograf, 1824. 28 s.
- Vilniaus Universiteto Biblioteka. Rankraščių skyrius (VUBRS). F13–195. Dziennik Czynności Seminaryum Głownego Duchownego oraz wszelkich wydarzaiących się w Seminaryum zwyczaynych y nadzwyczaynych wypadków od Roku 1808.
- Worotyński W. De Seminario Generali Vilnensi. Wilno: Drukarnia «Zorza», 1935–1938. T. 1–2.
[1] Романчук А., протоиерей Главная семинария при Виленском университете : воспитание и образование католического духовенства униатского обряда. С. 8.
[2] Kuzicki J. Książę Adam Jerzy Czartoryski i jego obóz polityczny wobec grekokatolikówm // Prace Historyczne. 2023. № 150. S. 98‒102.
[3] Долбилов М. Д. Русский край, чужая вера : этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. Москва: Новое литературное обозрение, 2010. C. 68‒76.
[4] Ustawy ogólne i szczególne Głównego Duchownego Seminarium. Wilno: Józef Zawadzki typograf, 1824. S. 25.
[5] VUBRS. F. 13‒195. S. 50.
[6] VUBRS. F. 13‒195. S. 21.
[7] Ustawy ogólne i szczególne. S. 26‒27.
[8] Ibid. S. 25‒26.
[9] VUBRS. F. 13‒195. S. 54.
[10] Worotyński W. De Seminario Generali Vilnensi. T. 2. S. 196.
[11] VUBRS. F. 13‒195. S. 69.
[12] Ibid. S. 84.
[13] На перехресті культур: Монастир і храм Пресвятої Трійці у Вільнюсі / ред. А. Бумблаускас, С. Кулявічюс, І Скочиляс. Львів: УКУ, 2019. С. 774‒777.
[14] VUBRS. F. 13‒195. S. 69.
[15] Янковский П., прот. Записки сельского священника. Минск‒Жировичи, 2019. С. 210‒211.
[16] Worotyński W. De Seminario Generali Vilnensi. T. 2. S. 93.
[17] Ibid. S. 94.
[18] Описание документов архива западнорусских униатских митрополитов 1701-1839. / ред. С. Г. Рункевич. СПб., 1907. С. 796‒797. (далее ОДАЗУМ)
[19] Там же
[20] Worotyński W. De Seminario Generali Vilnensi. T. 2. S. 95.
[21] Филевич И. Вопрос о воссоединении западно-русских униатов в его новейшей постановке // Варшавские университетсткие известия. 1891. № 7. С. 28.
[22] ОДАЗУМ. С. 758; Свидерский Л. Иоанн Крассовский: полоцкий униатский архиепископ. Витебск. 1911. С. 334.
[23] Янковский П., прот. Записки сельского священника. С. 211.
[24] Jogėla V. Vilniaus Romos katalikų dvasinė akademija 1833‒1842 m. Vilnius: Eugrimas, 1997. P. 6‒8.