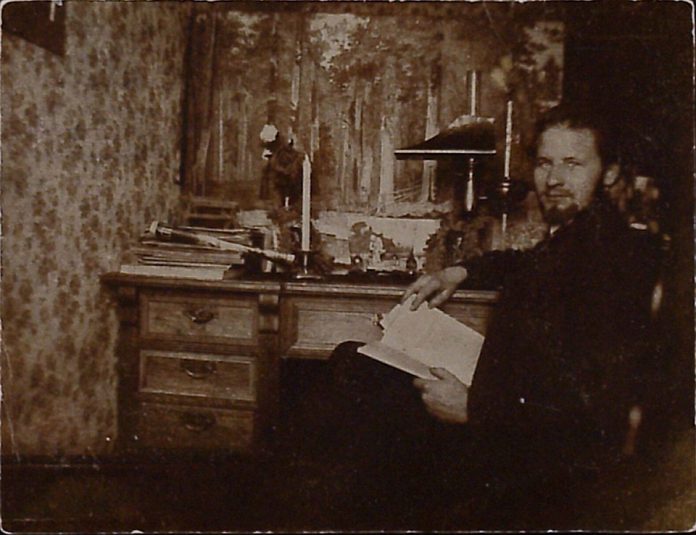В 1910 г. в белорусскоязычной газете «Наша нива», издаваемой в Вильно, появился ряд статей под общим заголовком «Краткая история Белоруссии» («Кароткая гiсторыя Беларусi») [1]. В сентябре этого же года на основе статей вышла отдельная книга с иллюстрациями [2]. Информация, содержащаяся в книге, была доведена до начала ХХ в., причём период нахождения Белоруссии в составе Российской Империи был описан очень кратко. А газетные статьи вообще содержали информацию до периода правления Екатерины II, и лишь одним абзацем упоминался период правления Павла I и Александра I. Автор статей и книги – Вацлав Устинович Ластовский скрывался под псевдонимом Власт. «Краткая история Белоруссии» стала первой попыткой создать субъективно-национальную белорусскую концепцию истории Белоруссии и была ориентирована в первую очередь на крестьянскую массу. Книга состояла из предисловия и пяти частей, последовательно рассматривавших исторические события (в основном политического содержания), происходившие на землях, определявшихся белорусскими националистами начала ХХ в., как Белоруссия.

В «Предисловии» Власт указывал, что история является фундаментом народной жизни. Этот фундамент у белорусов, по мнению В.У. Ластовского, достаточно весомый, но его никто не знает, потому что «сыны отечества нашего к чужим в наймиты пошли» [3]. Буквально сразу автор определяет направление своего произведения: «то, на что хватило моих возможностей» [4], то есть это не научное произведение, не плод интеллектуального анализа, а обычная компиляция из российских, польских и зародившихся чуть ранее украинских исследований. «Для учёных в этой работе нет ничего нового» [5], – пишет автор, подчёркивая тем самым уровень своего творчества. Это утверждение могло появиться по двум причинам. Во-первых, В.У. Ластовский, возможно, не претендовал на серьёзную научную работу, понимая, что книга будет распространяться среди крестьян, во-вторых, уже в предисловии автор сознательно подчёркивал компилятивных характер произведения, чтобы не заинтересовывать научную общественность того времени оригинальной версией истории. Иначе, и книге, и её автору пришлось бы подвергнуться серьёзной и тотальной критике со стороны специалистов. Причём, второе утверждение более весомо, так как В.У. Ластовский «жертвовал» книгу «сынам молодой Белоруссии» [6], а не старался создать объективную картину прошлого. То есть книга была больше пропагандой, чем исследованием. Упрощённые и не вполне логичные доказательства говорят о том, что объективность была далеко не на первом плане. В.У. Ластовский не был профессиональным историком (хотя позже, не имея образования, он попал на работу в Белорусскую академию наук). Он слушал некоторые курсы в университете, посещая лекции тайком, но вряд ли эти разрозненные посещения смогли сформировать конкретную и объективную картину исторического прошлого. Возможно поэтому в 1910 г. Ластовский не мог написать сколь-нибудь серьёзную работу, даже компилятивного характера, в силу отсутствия должной профессиональной подготовки. В принципе, перед ним не стояло такой задачи.
Как достоинства своей работы Власт преподносит язык, на котором она написана, то есть белорусский, и взгляд на историю с точки зрения «пользы и вреда» событий для белорусского народа [7]. Однако, насколько данные факты являлись достоинствами, говорить сложно. Дело в том, что белорусская речь в то время не была оформлена литературно. Белорусские тексты писались с использованием наборов слов определённых регионов, а подобные слова могли отсутствовать в других регионах. Всё это могло создать барьер для понимания содержания книги среди потенциальных чтителей. Основная масса белорусских националистов начала ХХ в. была родом из западных губерний Белоруссии, где ощущалось достаточно сильное влияние польского языка. Именно поэтому практически вся белорусская пропаганда велась на западных диалектах, не всегда полностью понятных для крестьян Восточной Белоруссии, что создавало серьёзный барьер между большинством белорусского крестьянства и националистической пропагандой. Кроме того, любое научное объяснение по-белорусски требовало употребления русских или польских литературных определений, поэтому нужно было привлекать словарный запас в первую очередь русского литературного языка (так как обучение в Северо-Западном крае Российской империи велось на русском и только в очень редких случаях на польском), а это не очень соответствовало концепции древнего и могучего белорусского языка, выдвинутой белорусским националистическим движением. Придумывание белорусских «научных» слов не увенчалось успехом, поскольку в основном они имели польское происхождение.
В «Краткой истории Белоруссии» В.У. Ластовский заявил о существовании белорусского этноса уже в начале государственной истории этого региона. По Ластовскому белорусы сформировались в период «от первых времён до бегства полоцких князей в Литву (1129 г.)» [8]. Во всяком случае, именно в этой части книги он помещает упоминание о появлении белорусского этноса. В.У. Ластовского не смущает отсутствие информации о появлении белорусов в тот период, этот информационный вакуум он объясняет просто: «… исторические известия […] об объединении наших племён в народ белорусский не дошли до нас в наших летописях» [9]. Власт не стесняется состарить некоторые исторические факты на пару веков (например, Витебское княжество появилось лишь в XII веке [10], а не в Х веке, как это утверждается в «Краткой истории Белоруссии» или вообще фальсифицировать события (например, Оршанского княжества в то время вообще не существовало) [11]. Причём феодальные войны великого князя киевского с полоцкими князьями с точки зрения В.У. Ластовского приобретают характер этнического конфликта между Южной Русью (упоминания русских у Ластовского не встречается для этого периода) и белорусами. Ластовский обходит все упоминания этнонима «русский» для населения Древней Руси, хотя и говорит о русских княжествах. Упоминание белорусов в то время, когда они ещё не существовали, практикуется рядом белорусских историков до сих пор.
В.У. Ластовский сознательно не употребляет этноним русские по отношению к жителям средневековой Западной Руси, но, говоря о Великом Княжестве Литовском, он очень часто называет его Литовско-Русским [12]. Однако по отношению к населению Литовского княжества постоянно упоминаются названия литовцы и белорусы, которые составляют два этноса, проживающие в государстве. Причём в книге не объясняется, почему государство называется Литовско-русским, а живут там не литовцы и русские, а литовцы и белорусы. Также встречаются фразы, которые должны были заставить читателей книги усомниться в логичности доказательств белорусской государственности того периода. Например, описывая упадок национального белорусского самосознания, В.У. Ластовский приводит в подтверждение этому фразу из предисловия к Евангелию XVI в.: «духовные учителя письма русского не знают» [13]. Для белорусского крестьянского населения начала ХХ в., которое не знало истории Великого княжества Литовского и не имело исторической памяти о нём [14], доказательства В.У. Ластовского не могли являться логичными и последовательными.
Кроме того, автор попытался выработать у читателей комплекс жертвы. По В.У. Ластовскому, тогдашнее независимое белорусское государство исчезло не потому, что оказалось нежизнеспособным среди соседей по причине своего внутреннего состояния, а потому, что соседи, в первую очередь Московское княжество, стремились захватить белорусские территории.
Власт определил врагов белорусского народа на разных этапах исторического развития. Так, в период Древней Руси врагами были великие князья киевские и другие русские князья, в период Литовского княжества – сначала поляки, а потом московиты, а после Люблинской унии, формально объединившей и так уже живущие практически вместе Польшу и Литовскую Русь, последняя попала «в неволю к Польше» [15]. На этом история независимой Белоруссии с точки зрения В.У. Ластовского была закончена. В данном случае автор шёл в контексте русской и польской историографии, которая именно дату Люблинской унии – 1569 г. – объявляла датой потери литовской независимости. В постсоветской белорусской историографии данная проблема иногда рассматривается по-другому. Образование Речи Посполитой стало считаться добровольным объединением Литвы и Польши на равных или приблизительно равных правах [16]. Однако Польское королевство за несколько десятилетий до Люблинской унии уже носило традиционное название «Речь Посполитая», а впервые этот термин был применён к Польше ещё в начале XIII века [17], поэтому, объединяясь, Польша не меняла даже своего традиционного названия, хотя этот же термин по отношению к Литовскому княжеству также иногда употреблялся в XV – XVI веках [18], но в первую очередь Речь Посполитая – это Польша.
Работая над своей «Краткой историей Белоруссии», В.У. Ластовский давал идеологическую оценку различных исторических событий, чем формировал белорусские националистические штампы. Однако белорусский национализм того времени был, скорее, явлением экзотическим, чем естественным. Даже в период Первой мировой войны, когда на оккупированной немцами территории было разрешено открывать учебные заведения на любых местных языках и наречиях, немецкие офицеры, отвечавшие за антирусскую пропаганду, рассматривали белорусский национализм как «некоторые сепаратистские стремления, которые развивают несколько археологов и литераторов из Вильно», чью деятельность «нужно причислить к местным делам, не имеющим политического значения» [19].
Интересно рассмотреть саму личность В.У. Ластовского – неординарного человека и активного националистического деятеля. Он родился в обедневшей шляхетской семье, как и большинство будущих белорусских националистов. Вся шляхта представляла собой явление сугубо польское, воспитанное в польской культуре и на польских традициях. Естественно все деятели белорусского национализма на первоначальном этапе своего становления прошли польско-католическую школу воспитания и образования, которая и в будущем довлела над ними. Не случайно тот же В.У. Ластовский изначально вступил в Польскую социалистическую партию Литвы и Белоруссии [20], которая, действуя на восточных территориях бывшей Речи Посполитой, никаким образом не стремилась отдать их белорусам. Однако вскоре по каким-то причинам В.У. Ластовский покинул польскую партию. Причины этого поступка белорусские историки не называют. Вполне возможно, будущий белорусский националист в силу ряда обстоятельств не смог полностью реализовать свою «польскость». Являясь представителем польской шляхты, В.У. Ластовский не соответствовал этому статусу, то ли в силу материального положения, то ли в силу воспитания. Почувствовав свою неполноценность как поляка, он ушёл из польского движения, но амбиции остались. Этот тезис подтверждает дальнейшее поведение неудавшегося поляка. Он пытается сдать экзамен по русскому языку на аттестат зрелости, но проваливает его [21]. После чего он не сделал больше ни одной попытки сдать экзамен повторно. Таким образом, у амбициозного молодого человека появился ещё один комплекс неполноценности – он не смог стать русским. Но амбиции требовали своей реализации, поэтому нужно было искать иную идентичность. Она была найдена в виде белорусской. Поскольку та только зарождалась, то никаких устойчивых норм и правил не было, даже белорусский язык для националистов был разным, так как литературного варианта не существовало, и каждый говорил, ориентируясь на диалект своей малой родины, перемешивая этот его с польской лексикой. В новой идентичности нашли себя в основном представители выродившейся шляхты, в подавляющем большинстве католики [22], воспитанные, естественно, в польских традициях. Всё это повлияло на взгляды В.У. Ластовского и должно было так или иначе отразиться в его текстах, в том числе и в «Краткой истории Белоруссии».
В целом, «Краткая история Белоруссии» представляла собой экскурс в вымышленное прошлое, в котором белорусы существуют уже в те времена, когда не было даже такого термина. История же представлена с игнорированием объективных и уже известных фактов, как интерпретация на заданную тему.
[1] «Наша ніва». Першая беларуская газэта з рысункамі. 1910. – Факсімільнае выданне. Вып. 3. – Б.м.: Б.и., 1999. – С. 5-7, 25-27, 43-44, 60-61, 75-78, 91-94, 110-113, 125-127, 140-143, 160-162, 173-175, 203-205, 222-224, 239-241, 258-260, 276-279, 292-293, 326-328, 341-343.
[2] Ластоўскі В.Ю. Кароткая гісторыя Беларусі. Факсімільнае выданне 1910. – Мінск: Універсітэцкае, 1992. – 126 с.
[3] Там же. С. 5.
[4] Там же.
[5] Там же.
[6] Там же.
[7] Там же.
[8] Там же. С. 7.
[9] Там же.
[10] Калядзінскі Л.У. Віцебскае княства // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 2. – Мінск: БелЭн, 1994. – С. 319.
[11] Шынкевіч А. Орша // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 5. – Мінск: БелЭн, 1999. – С. 357-358.
[12] Ластоўскі В.Ю. Кароткая гісторыя Беларусі. – С. 15, 22, 24, 25 и т.д.
[13] Там же. – С. 44.
[14] Об этом подробнее: Гронский А.Д. Историческая память о Великом княжестве Литовском в белорусском обществе в ХХ – начале XXI вв. // Современная Европа. 2025. № 1. – С. 175-184.
[15] Ластоўскі В.Ю. Кароткая гісторыя Беларусі. – С. 46.
[16] Например, Чигринов П.Г. История Беларуси. Уч. пособие. – Минск: Книжный дом, 2004. – С. 149.
[17] Грыцкевіч А. Рэч Паспалітая. / Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 6. Ч. 1. – Мінск: БелЭн, 2001. – С. 178.
[18] Там же.
[19] Станкевіч Ад. Да гісторыі беларускага палітычнага вызвалення. – Вільня, Выдавецтва «Шляху моладзі», 1935. – С. 80.
[20] Янушкевіч Я. Вяртанне з нематы // Ластоўскі В. Выбраныя творы. – Мінск: Беларускі кнігазбор, 1997. – С. 6.
[21] Там же. С. 7.
[22] Зайкоўскі Э. Роля канфесійнага фактару ў нацыянальный свядомасці беларусаў // Беларусіка-Albaruthenica: Кн. 2. – Мінск: Нац. навук.-асветны цэнтр імя Ф. Скарыны, 1993. – С. 269; Радзік Р. Рэлігійныя перадумовы фарміравання беларускай мовы // Беларусіка-Albaruthenica: Кн. 2. – Мінск: Нац. навук.-асветны цэнтр імя Ф. Скарыны, 1993. – С. 278.